Поделиться "Беседа с Гелианом Прохоровым (Алексей Любомудров)"
1,856 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
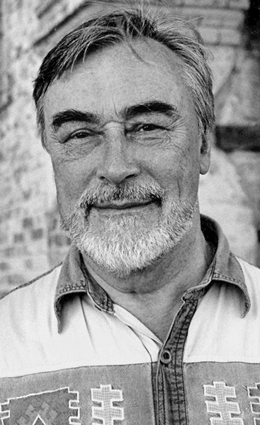 Гелиан Прохоров. Литературовед, культуролог, издатель, переводчик, очеркист, живописец. Родился в Ленинграде в 1936 году. Окончил исторический факулыет ЛГУ по кафедре истории средних веков (1965) и аспирантуру ИРЛИ (1968). С 1968 года работает в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома. В 1977 защитил докторскую диссертацию «Памятники литературы византийско- русского общественного движения эпохи Куликовской битвы». С 1992 г. — главный научный сотрудник ИРЛИ. Область научных интересов: древнерусская литература и книжность, славянские переводы с греческого, история русской культуры. Многолетнее общение с Л. Н. Гумилевым оказало влияние на мировоззрение и творческие интересы Прохорова. В семидесятые годы учёный предпринял грандиозное изучение византийско-русского общественного движения, преимущественно в аспекте истории культур и цивилизаций. Именно Прохоров впервые в России описал явление исихазма и труды одного из его основателей, св. Григория Паламы. Значение идей паламизма для развития русской цивилизации он изложил в двухтомнике «Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы» (2000).
Гелиан Прохоров. Литературовед, культуролог, издатель, переводчик, очеркист, живописец. Родился в Ленинграде в 1936 году. Окончил исторический факулыет ЛГУ по кафедре истории средних веков (1965) и аспирантуру ИРЛИ (1968). С 1968 года работает в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома. В 1977 защитил докторскую диссертацию «Памятники литературы византийско- русского общественного движения эпохи Куликовской битвы». С 1992 г. — главный научный сотрудник ИРЛИ. Область научных интересов: древнерусская литература и книжность, славянские переводы с греческого, история русской культуры. Многолетнее общение с Л. Н. Гумилевым оказало влияние на мировоззрение и творческие интересы Прохорова. В семидесятые годы учёный предпринял грандиозное изучение византийско-русского общественного движения, преимущественно в аспекте истории культур и цивилизаций. Именно Прохоров впервые в России описал явление исихазма и труды одного из его основателей, св. Григория Паламы. Значение идей паламизма для развития русской цивилизации он изложил в двухтомнике «Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы» (2000).
Создал и обосновал новую концепцию возникновения сводного общерусского летописания. Вступив в полемику с предшественниками, убедительно показал, как была создана Лаврентьевская летопись. При активном участии Прохорова как организатора, исследователя и редактора было осуществлено факсимильное издание древнейшей иллюстрированной Радзивиловской летописи. В 1992 г. совместно с В. И. и Д. В. Чернышёвыми организовал издательство «Глаголъ», выпускающее книги по истории и культуре. Один из создателей и член редколлегии журнала «Мѣра».
Сегодня имя Прохорова стоит в ряду крупнейших культурологов — от Шпенглера и Данилевского до Фукуямы и Хантингтона. Он впервые разработал целостную православную культурологию — «крестообразность времени», которая дала ключ к пониманию историко-культурных процессов.
Лауреат Государственной премии РФ (1993). Заслуженный деятель науки РФ (2009). Живописец, автор стихов, очерков и рассказов.
«…УДИВЛЯЮСЬ НЕОБЫКНОВЕННОСТИ ЖИЗНИ»
(С Гелианом Прохоровым беседует Алексей Любомудров)

— В этом году вы, Гелиан Михайлович, отмечаете своё 80-летие. Число восемь является символом полноты, завершённости. К этому юбилею вы действительно совершили немало. Интересно узнать, каковы корни ростка, из которого развилось столь плодовитое древо. Расскажите о родителях, о своём роде.
— Мои предки жили в древнем Мстиславльском уезде, на границе нынешних России и Белоруссии. Дед (отец мамы) — из крепостных. Он стал «столыпинским» крестьянином — вышел из общины и получил в надел пустошь. Превратил её, можно сказать, в цветущий рай. Служил церковным старостой. Около 1930 года его раскулачили и сослали. Когда вернулся — всё хозяйство было уничтожено.
— Вы родились в Ленинграде. Как родители оказались в этом городе?
— Папа, Михаил Ильич, был сначала военным фельдшером, служил в армии. Оказался по делам службы в Ленинграде. Мама, Анна Андреевна, закончила Хим.-фарм. институт, стала фармацевтом в Смоленске. Была очень трудолюбивая, прилежная, честная, и за хорошую работу её премировали поездкой в Ленинград. Там она и встретила папу. Они гуляли по городу, шли по Староневскому, папа увидел ЗАГС, сказал: зайдём-ка сюда — и их расписали. Отец снимал комнату в Ленинграде, и вскоре мама переехала к нему из Смоленска.
Папа демобилизовался и стал заведовать ветеринарной лабораторией. Семья получила квартиру в доме на Тверской, в тупичке около водонапорной станции. Перебрались туда и папины родители, чтобы быть ближе к сыну. В войну этот дом был разрушен бомбой. Чудом осталась цела наша квартира, едва державшаяся на груде развалин. Бабушку с дедушкой снимали оттуда по пожарной лестнице… Дед умер в блокаду.
— Когда началась война, вы были пятилетним ребёнком. Что-то запомнилось?
— Мы с братиком гостили тогда у маминых сестёр в Белоруссии, куда нас отправили на лето. Немцы быстро наступали, но тётки успели нас вывезти. Помню, ночью добрались до станции. На поезд сесть не удалось — он ушёл переполненный, и его разбомбили. Сидим на станции, возвращается самолёт, который бомбил поезд, низко-низко над путями летит — я видел лицо пилота. Но бомб у него уже не было. Все бросились кто куда, страху натерпелись… Пролетел, не стрелял, всё уже израсходовал.
Нашёлся паровоз, погрузились. В теплушке до Омска ехали целый месяц. Отец был комиссован, и они с мамой выбрались из блокадного города по Дороге жизни. Работали в Новосибирске. В 1944-м все мы вернулись в Ленинград, уже в новую квартиру на углу Фонтанки и Невского. В этом доме, кстати, жил Белинский.
— В вашей биографии написано, что вы были слушателем Военно-воздушной инженерной академии имени Можайского. Хотели стать военным?
— Однажды к нам в школу пришёл полковник, весьма интеллигентного вида, и сказал, что эта академия — лучшее из всех учебных заведений. Мне он очень понравился, я и поступил туда. На шестом курсе, правда, меня исключили из академии и из комсомола и отправили в стройбат. Там на лесоповале нёс бревно, поскользнулся, здорово ободрал лицо, даже потерял сознание. Меня направили в госпиталь и демобилизовали. Можно сказать, повезло!
— Причиной исключения было общение с «лагерником» Гумилёвым?
— Возможно, одной из причин. Я им, помню, с вызовом прочёл Пастернака, из перевода «Марии Стюарт» Шиллера: «Проверка правды не в голосованьи, / И Англия ещё не Божий мир. / И твой парламент менее вселенной, / И наши дни не будущие дни». Я читал: «И ваш парламент…» Эти строчки их взбесили!..
В 1959 году пришёл поступать в университет, но с характеристикой, которую выдала мне академия, меня не приняли. Там было написано: «Политики партии и правительства не понимает». Год отработал на стройке, попросил характеристику — говорят, напиши сам, я и написал: «Политику партии и правительства понимает правильно» (смеётся). И меня приняли.
— Интереснейшая страница вашей биографии — общение с Львом Николаевичем Гумилёвым. Вы по праву считаетесь его учеником и другом, посвятили ему воспоминания, опубликовали переписку. Как познакомились?
— Оказались в одном поезде! Я ехал со своими друзьями-художниками полазить по Эльбрусу. Дверь купе открыта, по коридору идёт какой-то сутуловатый человек — мы его пригласили. Взяли бутылку вина, завёлся разговор. Дорога была долгая… Он собеседник оказался замечательный, читал нам стихи Серебряного века. Помню: вышли с ним покурить на полустанке, он стал рассуждать, отчего, мол, Александр Македонский полмира завоевал? Почему норманны когда-то всю Европу окружили и все их боялись — а сейчас только селёдку ловят? Говорил о пассионарных толчках, что приходят к народам… Это было сказочно увлекательно!
Так началось наше общение. Он уехал в Кисловодск лечить свою лагерную язву, а потом осенью в Ленинграде пригласил к себе домой. И я ходил к нему на протяжении десяти лет каждую неделю.
— Давно хотел задать вам деликатный вопрос. В вашем облике есть нечто благородно-восточное. Откуда эти черты?
— Я сам думал об этом и ответ исторически «вычислил» ! В местах, где жили мои предки, в древности селились татары, пришедшие из Золотой Орды. Многие из них крестились, получали землю. Женились. Кстати сказать, родоначальник Глинских, князь Алекса, оттуда родом. И сам Грозный, как известно, прямой потомок Мамая. Я своих земляков, «восточных белорусов», по этим чертам сразу узнаю.
— Ощущаете ли в своей натуре эту кровинку евразийскую?
— Не знаю… Просто отношусь с любовью к этим людям.
— У Гумилёва предки тоже ведь из татар!
— Да, Ахматовы… У него, может быть, проявлялась и кровная привязанность. Но у него ведь была и целая большая идея Евразии.
— Вот и перейдём к идее Евразии. Лев Николаевич Гумилёв выстраивал потрясающе интересные гипотезы, я помню аншлаги на его лекциях. Но и споры вокруг его идей велись немалые. Разделяете ли вы мысль Гумилёва о «симбиозе» Руси и Орды, о едином государстве и отсутствии конфликтности между двумя этносами? Ведь он очень благодушно смотрел на эпоху, когда Русь была частью Золотой Орды.
— Пожалуй, он действительно переслащивает эти отношения. Они были страшные, особенно в начале завоевания — сколько погибло людей, сколько памятников культуры! И потом, в XIV- XV веках, всё-таки на Руси жила очень большая церковная идея, что мы должны освободиться. Никуда не делось опасение, что ордынцы придут снова, опять пожгут все монастыри. Но, конечно, когда люди живут долго вместе, что-то родственное между ними возникает. У нас ведь столько фамилий происхождения магометанского. Но идиллии не было.
— А идею пассионарносги, как объясняющую историю этносов, вы насколько принимаете?
— В какой-то части. Гумилёв побудил меня размышлять, и благодаря ему я пришёл к идее крестообразности времени, к понятию о духовно-исторической ориентации народов. Русский народ возник, конечно, при переориентации с Прошлого на Вечность. Каки все почти европейские народы. Англичане сплавились из таких вот враждующих родов. И французы, и поляки… Христианство обладает этногенетической силой. Мусульманство — нет, оно консервирует родовые отношения. А христианство сплавляет.
Несомненно, происходит пассионарный толчок. Лев Николаевич считал, что эти источники, эти дуновения энергии — чисто природные, космические, ведь Земля носится посреди космоса. А я думаю, что какое-то энергетическое обогащение происходит в первую очередь при ориентации этноса на Господа Бога, на вечную жизнь.
— То есть не физическое, а метафизическое?
— Точно. На этом мы с ним разошлись.
— Был ли Гумилёв православным?
— Несомненно. Он же мой крёстный! Кстати, когда в 1966 году отпевать Анну Ахматову отказались другие священники, именно я пригласил батюшку, который и совершил обряд, — отца Василия Бутыло.
— Что вас привело в церковь? Когда усвоили христианское мировоззрение?
— Христианство я начал воспринимать с юности. У меня ведь бабушка, папина мама, была верующая, у неё иконка висела. В блокаду ходила в Князь-Владимирский собор. Умерла на 101-м году жизни.

Опять же большую роль сыграл Гумилёв. Я чувствовал, что у меня все измерения, так сказать, плоскостные, а у него есть ещё вертикалъ. Вертикаль, благодаря которой он и выжил в лагерях, направленная к Богу, к Духу истины. Вот, чувствуя свою в этом отношении какую-то неполноценность по сравнению с ним, я и попросил его стать моим крёстным. Крестился студентом, в 1962 году.
— Конечно, тайно?
— Нет, но было это не в Питере, а в Гатчине — просто мой знакомый батюшка, тот самый Василий Бутыло, служивший в Павловском соборе Гатчины, назначил день и пригласил в свой храм.
— Имя святого покровителя сознательно выбирали?
— Да, крестился в честь Григория Паламы. Но я не знал тогда, что есть и святой Гелиан! Моя мама была химиком, родился я 20 марта, солнце — Гелиос! — сияло в этот день. И она придумала мне это имя, даже не подозревая о том, что 22 марта — память Сорока мучеников, одного из которых звали также — Илианос по-гречески. Если 6 я знал — крестился Илианом! Ну, теперь у меня два святых покровителя, я обоих и поминаю.
— Григорий Палама — знаменитый учитель исихазма. Когда возник ваш интерес этому движению и его бытованию в Восточной Европе? Как родилась тема, ставшая главной в ваших исследованиях?
— Поступив на истфак, вначале я занялся археологией, ездил в экспедиции. Однажды вместе с Львом Николаевичем поехали на Каспий, где обследовали подводную часть Дербентской крепости. Хотелось посмотреть на то, что описывали арабские географы. Мы закончили курсы аквалангистов, погружались под воду.
И вот в ходе этих экспедиций и благодаря этим древним описаниям я вдруг осознал, насколько важная вещь литература. На втором курсе я перешёл на кафедру истории средних веков. Изучая историю Византии, стал вникать в исихастские споры между Варлаамом и Паламой, — между обвинителем и защитником исихастов. Вот тогда-то понял, насколько важен был исихазм для сохранения вертикали, для возможности общения с Богом. Занялся византийско-русскими отношениями того времени.
— Вам не чинили препятствий? Ведь эта тематика тогда никем в России не изучалась?
— Абсолютно никем. На истфаке кафедрой заведовал византолог Г. Л. Курбатов — умный, хороший, «не вредный», он не мешал мне в моих штудиях. За рубежом наследием Паламы тогда занимался богослов, патролог отец Иоанн Мейендорф, я познакомился с его трудами, а потом и с самим автором.
Со второго курса стал ходить на заседания древнерусского сектора ИРЛИ, выступил с докладом, и Д. С. Лихачёв пригласил в аспирантуру. С тех пор я — в Пушкинском Доме.
— Судя по вашим опубликованным рассказам, занятия чистой наукой расцвечивались разного рода опасными приключениями. После переписки с Солженицыным и хранения сам-издатовских рукописей за вами стали следить, устраивали обыски, вызывали на допросы…
— Да, меня вызвал кэгэбэшник, стал вербовать. И тут я вспомнил инструкции опытного в таких делах Лихачёва. «Я во сне разговариваю, тайны могу выдать, и вообще человек ненадёжный», — вот так, «прикидываясь дурачком», я и отбивался от них. Это было в 1970-е.
— Ваша статья «Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы», приуроченная к её 600-летнему юбилею, сделала ваше имя знаменитым в кругах национально ориентированной общественности.
Помню, многих вдохновляли ваши чеканные строчки и выводы: православие «дало Руси духовные силы пережить своих поработителей, сбросить их иго, воссоединиться и стать величайшей Россией». По сути же статья являлась полемикой с Д. С. Лихачёвым. «Предвоз- рождение» — это ведь его термин. Он говорил, что в культуре Древней Руси зарождались начатки индивидуализма, начиналось осознание ценности личности, но секуляризации культуры и расцвета гуманизма так и не произошло. В отличие от западного Ренессанса. В ответ вы предложили для той эпохи свой термин — «православное возрождение», и показали, что это было время духовного расцвета Руси.
Вы сказали о важнейшем значении идей и практики исихазма для развития русской цивилизации. Я тогда наизусть выучил и цитировал ваши строки: «В критический для страны момент не гуманисты с их холодными рассуждениями, а исихасты с их горячими молитвами оказались близки народу, жаждавшему жить».
— Ну, в общем, так оно и было. Но сознательной полемики с Лихачёвым не было. Я писал о том, о чём писал…
— Дмитрий Сергеевич для многих остаётся человеком-загадкой. Споры вокруг его фигуры ведутся до сих пор, упомяну лишь шокировавшую многих монографию вашего коллеги Д. М. Буланина «Эпилог к истории русской интеллигенции». Мне врезался в память эпизод: однажды я проводил в Пушкинском Доме очередную «пасхальную» конференцию, большие красивые афиши о мероприятиях Светлой седмицы не уместились на доске объявлений и их повесили на стены вестибюля. 90-летний Д. С. Лихачёв, едва войдя в институт, собственноручно принялся срывать их со стен, словно ему кололи глаза пасхальные приветствия; меня тогда поразила эмоциональность этого действия. Вы близко знали академика, скажите, можно ли называть Лихачёва православным человеком?
— Ну, мне трудно судить. Конечно, в глубине, в основе он сочувствовал православию. Ведь он любил древнерусскую культуру, как же без этого. Но публично демонстрировать веру остерегался. Помню случай: я еще студентом из любви к нему послал по почте открытку, где поздравлял с Рождеством Христовым, за что получил от него строгое предупреждение: «никогда больше не делайте этого».
— Вы — автор интереснейшей теории, которую назвали «крестообразность времени». Горизонталь «прошлое — будущее» пересекается с вертикалью «миг — вечность», образуя крест. В этих координатах проходят свой исторический путь народы и цивилизации. А куда, по вашему ощущению, сейчас идёт Россия? Ведь культура, наука, образование разрушаются. Чем это закончится?
— Я не пророк… Кто-то из старцев сказал: «Народ, не думающий о небе, недостоин жить на земле». Но, может быть, какая-то часть народа прошла уже это дно, начинает интересоваться прошлым. Поднимемся мы или нет? Не знаю. Я думаю, что если когда-нибудь пойдём вверх, — будет больше благородства, возобладают интересы национальные. Тогда, между прочим, мы совпадём во многом со староверами. Они удивительный народ! Такое чудо: в наши дни — живая Древняя Русь. Богатая, действующая, умная, плодовитая: у них по 15 детей в семье — обычное явление.
— Иногда складывается впечатление, что нынешняя наша церковь слишком забюрократизирована, не всегда способна живо реагировать на события, достучаться до ума и сердца народа. Епископы, иерархи, клир для многих представляются неким замкнутым миром. Не кажется ли вам, что маловато миссионерской работы, и редко встретишь подвижника-свя- щенника, который нёс бы людям живое слово Истины?
— Я не решусь критиковать церковь… Пожалуй что, я вас понимаю. Вот, кстати, скажу ещё про никоновскую реформу. Когда я вхожу в свой Андреевский собор, вижу, как появляется настоятель… в императорской короне! Её ещё митрой называют. Никогда в Византии патриархи и тем более священники не носили митры. Сохранилась масса миниатюр: тогда были только священнические одежды. А сейчас — по сути императорские. Началось это, когда турки разгромили империю. Находясь под властью турок, патриарх стал как бы министром людей, исповедующих православие (греков, болгар, сербов), обрёл имперские функции. Они и нарядились как императоры, стали носить фелонь — императорскую одежду. И священно- монахи ввели в моду головной убор турецких офицеров — чёрный котелок без полей, чтобы подданные чувствовали, что это власть. В XVII веке греки принесли всё это нам. Никону-дурачку это так понравилось — вот и переняли стиль новогреческой подтурецкой церкви.
— Как относитесь к католической вере, к католикам?
— Всё зависит от человека (улыбается). Я был дружен с ныне уже покойным Томашем Шпидликом — чешским кардиналом, крупным специалистом по православию при папе Римском. Меня пригасили в Рим, месяц жил, работал, заканчивал там перевод Дионисия Ареопагита.
— Вы один из организаторов и постоянный участник ежегодных конференций по истории христианской духовной практики, проводимых католической коммуной Бозе в Италии. Вы, кажется, участвовали в разработке идеологии этих встреч?
— Вначале да. Мы делали это вместе с настоятелем общины, отцом Энцо Бьянки. Я предлагал темы очередных съездов. Потом как-то предложил тему «Осень Древней Руси». Её утвердили, но наши церковники меня обругали за это название: мол, что за «осень» такая. С тех пор меня перестали привлекать к планированию.
Бьянки был студентом экономического факультета, и как раз в это время проходил Второй Ватиканский собор, где православных признали христианами (смеётся). А он прочёл Нила Сорского и очень полюбил его и всю православную культуру. Интерес общины к исихастской традиции, к монашеству — всё это развивалось с 70-х годов. Бьянки ушёл как пустынник и стал жить в брошенной деревне. Потом к нему стали приходить другие. История повторилась, почти как у нас: отшельник — скит — киновия. Там у них замечательно. Есть своё издательство, выпускают книги о старцах, о православной духовности. Каждый год езжу к ним на конференции, был уже, наверное, раз двадцать.
— Вы осуществили грандиозную работу — перевели с древнегреческого корпус сочинений Дионисия Ареопагита с толкованиями Максима Исповедника. И попутно установили автограф древнего переводчика Дионисия на славянский — сербского инока Исайи. Очень интересна научно-творческая кухня, поделитесь какими-нибудь историями.
— Был такой русский учёный А. Ф. Гильфердинг. Его как дипломата послали в Сербию чиновником. А он стал ездить по разрушенным турками монастырям, церквям, собирал рукописи. Вернувшись, он подарил Императору 101 сербскую рукопись ХІІІ-ХѴІ веков. В том числе список Дионисия Ареопагита, как он думал, XV века. Его поместили в Публичную библиотеку. Я, взглянув на этот список, на его водяные знаки, отнёс его к началу 1370-х годов. Посмотрел особенности, и возникла мысль: не автограф ли это? Созвал специалистов, стали изучать. Так и установили переводчика. Произошло маленькое чудо: был такой Герман Гольц, немецкий профессор, который тоже занимался Ареопагитом. Он получил грант, и мы издали рукопись фототипически, в пяти томах. И вовремя, потому что затем манускрипт стали реставрировать, срезали заметки на полях, замазали чем-то текст — в общем, испортили.
— Вы занимались историей славянских миссионерских азбук. На чьей вы стороне в спорах о том, кто изобрёл глаголицу? Некоторые полагают, что св. Кирилл?
— Указать трудно, но с большой вероятностью это всё-таки святой Иероним Стридонский, уроженец Далмации. Глаголица — родная сестра коптского и армянского алфавитов, и была создана для славян. Это моя теория. Мои коллеги-австрийцы думают, что св. Кирилл изобрёл глаголицу — но этого быть не может. Он, конечно, автор кириллицы.
— Вы прославились изданием русских летописей, уточнили их хронологию, создали новую концепцию сводного общерусского летописания. Расскажите об этой работе.
— Лаврентьевскую летопись, куда входит знаменитая «Повесть временных лет», почему-то никто внимательно не смотрел. Она кончается 1315 годом — вот и решили, что в это время был составлен список. Мне удалось установить, что часть рукописи, в которой говорится о татаро-монгольском завоевании, полна неоднократных переделок. Листы вынуты, пе-
реброшюрованы. Этот рассказ весь сделан «при помощи ножниц и клея», как компиляция из прежнего летописного повествования. Стало ясно, что создан текст не в 1315, а в 1377 году (до Куликовской битвы оставалось всего три года), и являлся он своего рода антитатарской пропагандой.
«Лаврентий мних», завершив 20 марта 1377 г. написание летописи, названной впоследствии по его имени, сделал к ней большую приписку. Однажды, когда я работал над текстами в Ватиканской библиотеке, меня осенило: приписка — это же ямбические греческие стихи! Надо только расставить их по строчкам. Получается, нижегородский писец Лаврентий, как и его современник серб Исайя на Балканах, имел представление о греческом стихосложении и, начиная свою знаменитую приписку, старался подражать 12-сложным ямбам писцов-греков.

Что меня до сих пор удивляет — почему на эти известнейшие рукописи никто до меня не посмотрел в таком ракурсе.
— В 1990-е годы вы стали одним из организаторов издательства «Глаголъ» и религиозно-философского журнала «Мѣра». Расскажите об этих проектах.
— Мы задумали и осуществили их вместе с Василием Ивановичем Чернышёвым. Дело было так: сын Чернышёва Дмитрий учился у меня, был студентом. Однажды встретились с ним в метро, и он сказал: папа хочет делать издательство и журнал. И мы вместе их и создали. Чернышёв оказался великолепный организатор!
Одним из крупных проектов издательства стал выпуск Радзивилов- ской летописи. Здесь опять помогла случайность. Нам, сотрудникам древнерусского отдела, дали Государственную премию за серию «Памятники литературы Древней Руси». Я был в Москве на вручении. Зашёл в зал к киношникам. Рядом со мной сидел такой «шкаф»-бизнесмен. Разговорились, я сказал, что вот, мол, много лет ждёт издания древнейшая летопись, как бы издать. Он только спросил: «Сколько?» — и отстегнул несколько тысяч! Великолепно подготовили факсимильное издание, печатали в Финляндии.
Там же, в издательстве «Глаголъ», выходят книжицы из задуманной мной серии «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях» .
— Когда вы решили выпускать «Мѣру», какую цель ставили?
— За всё хорошее! (улыбается).
— Хороший лозунг! Помню, там были интересные публикации церковно-исторического, и более широкого, историко-культурного плана. А почему названия журнала и издательства в церковнославянской графике, через ять и с ером?
— Стремились показать, что мы не ограничены реформой языковой. Это отнюдь не только церковнославянская орфография — так в России писали до революции. Это русский язык до советской реформы… Однажды я был в Америке, вдруг меня спрашивают, а «Мѣра» ещё выходит? Поразительно, я был удивлён, что там знают этот журнал.
У меня дома есть ещё рукописный «Домашний журнал» — стихи, рассказы, рисунки. Вышло пять номеров. Делался он для семьи. Я побуждал дочерей писать, рисовать. Там есть рассказы мои, жены и наших знакомых. Например, записанный мной рассказ Н. А. Мещерского о том, как в 1930 году академик А. С. Орлов «разоблачал» арестованного Николая Петровича Лихачёва.
— Надо бы издать ваш журнал, это же интереснейшая вещь. Я знаю, что выставки ваших картин проходили в Пушкинском Доме, в музее Достоевского, в Пушкинских Горах. В одном из своих стихотворений вы, наблюдая за случайными попутчиками, признаётесь: «И мне хочется всех их нарисовать, /Ия опять удивляюсь / Необыкновенности жизни». Как родилось увлечение живописью и когда впервые взяли кисть?
— Ещё в школе. Приехал из Москвы дядя, папин брат, и, видя, что я рисую, купил мне в магазине краски. Потом, уже учась в академии Можайского, часто ходил по музеям, букинистическим магазинам, очень любил живопись и литературу. В музее-квартире Исаака Бродского, однажды, смотрю, симпатичная девушка копирует портрет. Познакомился — оказалась студентка Академии Художеств. Так появился круг друзей-художников. Я сам стал писать, рисовать. В основном темперой. Мне было тогда лет двадцать…
— Сколько же у вас картин?
— Стен квартиры не хватает! (улыбается).
— Гелиан Михайлович, кто ваш любимый писатель?
— Достоевский.
— А из поэтов?
— Да всех люблю… хороших!
— Сегодня на дворе 2016 год, за окном март солнечный, столь редкий в Питере… Что вы посоветуете «юноше, начинающему житьё», молодым русским мыслящим людям?
— Как специалист по древнерусской литературе, я хотел бы, чтобы её читали. И понимали связь Руси Древней с Россией новой. И помнили, что рядом с нами — самая реальная Вечность, и связь с ней терять нельзя ни в коем случае.
— Русская земля постоит ещё?
— Несомненно.
— Век-другой, или…
— Бог даст — до конца времён. С тех пор как Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, люди блуждают умом, сами решают, что есть зло, а что добро. Выбирают между прошлым, моментом, будущим — и отказываются от вечности-в-настоящем. Если откликнемся на евангельский призыв и обратимся умом к Вечности, то снова вернёмся к Богу. И тогда круг времён завершится…
— Замечательно побеседовали. Спасибо вам!
— И слава Богу.
Беседа с Гелианом Прохоровым (Алексей Любомудров). // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 10, страница 175-186


