Поделиться "Николай Ульянов. Золотая книга"
1,314 просмотров всего, 2 просмотров сегодня
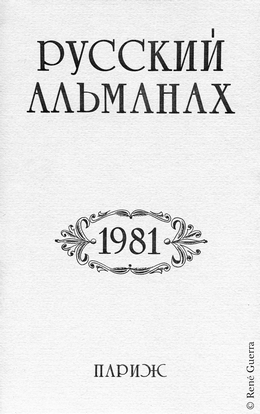 РУССКИЙ АЛЬМАНАХ. Париж, 1981. ТРИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РУССКИЙ АЛЬМАНАХ. Париж, 1981. ТРИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Мы продолжаем начатую в 6 номере публикацию материалов из «Русского альманаха», изданного в Париже в 1981 году. Редакторами и составителями этого уникального издания явились Зинаида Шаховская, Евгений Терновский и Ренэ Герра. Последний не только познакомил нас с альманахом, но и предоставил интереснейший иллюстративный материал к воспоминаниям танцовщика, хореографа и балетмейстера Сергея Лифаря (1904-1986), живописца и писателя Михаила Андреенко (1894-1982), историка, эссеиста и прозаика Николая Ульянова (1904-1985). Особо следует отметить публикуемые на цветной вкладке репродукции картин писателя и художника Сергея Шаршуна (1888-1975), «магического реалиста», близкого одно время к кругу дадаистов.
Николай Ульянов. ЗОЛОТАЯ КНИГА
Я сидел под вечер за столиком на набережной перед Симитеро. Туристы считают это место задворками Венеции и толпятся на Пьяцетте около Дворца Дожей. Но душа Венеции не там. Она здесь, в неподвижных водах, устланных шелками заката, в чёрных сваях, торчащих из воды, в птицах, опознать которых трудно в этот час. Глядя на жёлтые стены Симитеро с чернеющими за ними кипарисами, чувствуешь, что быть там похороненным так же хорошо, как умереть в объятьях прекрасной синьорины.
Через лагуну двигалась погребальная гондола, чёрная с золотом.
— В такой поздний час?! — подумалось мне.
Должно быть, у меня вырвалось какое-то восклицание, потому что сидевший поблизости счёл его удобным, чтобы заговорить.
К моему удивлению, он оказался русским.
— Не правда ли, красиво на закате плыть в вечную обитель?
Приученный к осторожности при встречах с незнакомыми русскими,
я отвечал кратко и невнятно.
— Только это не для всех, — продолжал незнакомец. — Лишь избранных хоронят в такое время.
— Каких же избранных? Прелатов? Министров?..
Он усмехнулся.
— Это, по-вашему, «избранные»? Они забываются на другой же день, как миллионы простых смертных.
Я посмотрел на незнакомца и показалось, что где-то видел его.
— Под избранными я понимаю исторических деятелей, чьё имя останется в веках.
— Значит, и в этом гробу, что плывёт на кладбище, лежит исторический деятель?
— Несомненно.
— Это интересно. Но раз уж вы так утверждаете, то не назовёте ли, хоть, имя?
— Оно вам ничего не скажет.
— Я, конечно, не знаток мировой политики, но слежу за нею с интересом профессионального журналиста. Думаю, что имена, имеющие какой- нибудь шанс на вечность, — не тайна для меня.
— Вот и видно, что истинно-мировая политика скрыта от вас. Те, за кем вы следите, — марионетки. Не замечая нитей, с помощью которых ими управляют, вы ничего не можете понять в их жизни. Впрочем, что я говорю? Это же не мои, а ваши собственные мысли. Вы их высказывали когда- то лучше меня.
— Что такое? Я высказывал? Кто вы? позвольте узнать…
— Кто я? Это вы должны припомнить, а слова ваши — вот они.
Он достал пожелтевший листок и, как кельнер, рекомендующий хорошее вино, проговорил:
— Ему двадцать пять лет. Позволите прочесть?

В листке говорилось, что, несмотря на телефон, радио, газеты, сообщающие о назначениях министров, о скандалах в Палате Депутатов, о протоколах и конференциях, — не было никогда более тайной политики, чем сейчас. О чём бы ни трещало радио и ни кричали газетные заголовки – всё это вздор. Пойло для толпы. История делается в таких местах и такими людьми, о которых мы понятия не имеем. И делается с давних пор.
— Почему вы это приписываете мне? Такое мог сказать любой, если не школьник, то студент. А главное: где и когда это было сказано?
— Сказано было в ответ на жалобу на наше бесцветное время, на отсутствие великих людей. Вы признали наши дни столь же богатыми такими людьми, что и в прошлые времена. Только мы их не знаем. Указали мне на худенького господина с газетой в руках: «Быть может, это он наш Ришелье или Талейран». Припоминаете?
Двадцать пять лет! Дело Стависского… Убийство Думера… Мировая война… Гибель Райха… И всё-таки в памяти что-то зашевелилось.
— Люксембургский сад … — подсказал мой собеседник. И тут прояснилось.
— Я, кажется, видел вас там. Вы часто сидели возле памятника Флоберу.
— Браво! — обрадовался он.
— У вас были усы и волосы, зачёсанные а ля Флобер, и во всём вы старались походить на него.
— Да, я тогда обожал Флобера. Не столько романы, сколько личность.
— Помню. Вы это сказали сразу после нашего знакомства. Кажется, вас больше всего поражало его отшельничество, каторжный труд и полное отсутствие тщеславия.
— О! У вас чудесная память! Я действительно преклонялся перед величием этого человека. Он сознавал свой гений. Он знал, что его ждёт посмертная слава. Вы укрепили меня в моём благоговении, сказав замечательные слова. Они вот тут у меня записаны: «Знать, что посмертная слава тобой заслужена, это то же, что иметь её при жизни».
— Очень рад, что нам довелось снова встретиться, — сказал я, хотя продолжавшее работать воспоминание плохо проясняло образ давнишнего знакомого. Вспомнили, что уже тогда, в Париже, он чем-то тревожил меня, хотя при встречах в Люксембургском саду обнаруживал несомненную интеллигентность и умение хорошо говорить. Он сильно постарел, поседел.
— Ни за что не припомнил бы, если бы вы сами не заговорили. Но как вы меня узнали? Ведь я, конечно, изменился не меньше вас.
— О, с моей персоной у вас связан короткий и легко забывающийся эпизод, вы же — величайшее событие в моей жизни. Я не переставал следить за вами все эти двадцать пять лет. И сюда, в Венецию, приехал, как только узнал, что вы здесь. Не пугайтесь… Просто вы своими речами взволновали меня на всю жизнь.
—Что такое?.. Никак не могу понять…
— Забыли — вот и всё. А я ваши речи тогда же записал и буду смиренно просить позволения прочесть их вам сейчас.
Он вынул какие-то листки, и по мере их чтения передо мной вставала картина нашего парижского знакомства.
— Записки мои начались с того дня, когда я спросил, не масон ли вы. Вы сказали: нет. Но я часто вижу у вас «Revue Maçonique». — Это потому, ответили вы, что масоны меня интересуют. — Своим учением? — Нет. Оно запутанное и придумано умными масонами для своих дураков-собра- тьев. — Но чем же оно увлекает вас? — Увлекает не учение, а сами масоны; тем же, чем вас пленял Флобер, — посмертной славой.
Помню: мы в это время стояли у фонтана Медичи. Мой собеседник, опиравшийся руками о решётку, так подпрыгнул, что чуть не упал в бассейн.
— Ин-те-ресно!.. Очень интересно! Не объясните ли?
— Что же тут объяснять? Вам известно, что говорят о масонах.
— Кого вы имеете в виду — публику или их самих?
— Какой же толк слушать, что сами они говорят? На то они и тайная организация. Тайны своей не выдадут. Нас больше занимают те, что стараются раскрыть эту тайну. И сколько бы сами масоны ни отрицали своего влияния на мировую политику — никто им не верит. Общество успело много узнать о них. Один аббат Турментен сделал столько разоблачений, что в сказку об аполитичности масонских организаций могут верить только дети. Мы не знаем всех их ходов и маневров, но знаем, что такие существуют и этого достаточно.
Он слушал так, будто готов был проглотить каждое моё слово.
— Значит вы верите в легенду о захвате власти над миром, как конечную цель масонства?
— А то как же? Не будь этой цели, оно не представляло бы ни малейшего интереса. Разве что для полиции. Меня лично оно увлекает именно своей всемирной миссией.
— Но ведь это ложь.
— Кто вам сказал?
— Ну… так говорят…
— Так говорят сами масоны и боящиеся их, а все независимые считают это сущей правдой. Если бы не было этой великой цели, то грош цена всем этим «ложам» и «храмам». На свете есть более интересные игры и развлечения. Но строить терпеливо такую храмину в течение сотен лет, раскидывать сеть по всему миру, вовлекать в неё профессоров, генералов, министров, членов парламента, королей, президентов, устраивать кризисы, войны, революции можно только при наличии грандиозного замысла, а вовсе не из любви к искусству. Нет, существует великая целесообразность во всех их планах и действиях… Вот и жалуйтесь после этого на серенькое обличье наших дней, на отсутствие великих дел, грандиозных замыслов… Для меня наше время — самое интересное, захватывающее дух. Подумайте только! Создаётся подлинно мировая держава. Ни Рим, ни Чингиз-хан в уме не держали подобного. И создаётся методами невиданными до сих пор — путём подделки под исторический процесс, под «объективные факторы общественного развития»… Существовал ли когда-нибудь более грандиозный план и проводился ли в жизнь так неуклонно?
— Ха-ха-ха! Вот вы бы и написали в ваших «Последних Новостях». Ваш Милюков хоть и не масон — никогда не упустит случая польстить масонам. Но должен признаться, в вашем лице я вижу первый раз врага масонства без ругательств, без черносотенной ненависти.
— С чего вы взяли, что я «враг»? Я никогда не был и не буду масоном, но и врагом их себя не считаю. Я просто наблюдатель, восхищающийся их игрой. Одно то, что они стремятся прибрать к рукам все правительства, все крупные силы в этом мире, делает их достойными такого восхищения.
А жалобы на скудость государственных умов и дарований в наши дни — простое недоразумение. Прошло время, когда их видели на министерских и президентских постах. Теперь надо уметь различать гений тех невидимых, что стоят позади правительств. Вот подлинно великие люди, демиурги истории! Что там Питты и Бисмарки! Наше время отмечено появлением людей, превосходящих гениальностью всех Цезарей и Наполеонов.
Мой собеседник стоял бледный с преображённым лицом.
— Говорите! — шептал он. — К чему вы клоните?
— К тому, что эти люди вряд ли при жизни будут известны. Им дают богатства, комфорт, наслаждения, но славы…
Тут он сорвался с места и бросился из сада. Больше месяца его не видно было.
Сидя однажды на скамье возле большого бассейна, я увидел его и не сразу узнал. Флоберовские усы сбриты, волосы зачёсаны на другой манер, лицо худое, бледное. Он сел рядом и молчал.
— Так вы говорите, они лишены будут славы?
Успевши забыть наш предыдущий разговор, я не сразу понял, а когда понял и, улыбнувшись, спросил, почему он так близко к сердцу принимает их судьбу, он нервно встал и, опять не сказав ни слова, ушёл.
Дня через два на бульваре Сен-Мишель он не подошёл, а подбежал ко мне.
— Вы хотите сказать, что историю делают люди, презирающие славу, известность и всё, что движет государственными знаменитостями? По-ваше- му, они даже имён своих не оставляют потомству… Неужели жертвуют ими ради комфорта и богатства?
— Насчёт имён я ничего не говорил. Думаю, что только ради этого они живут и только это их вдохновляет.
— Тогда я ничего не понимаю.
Меня начало тяготить приставание странного субъекта. В немногих словах не вполне дружелюбным тоном сказал насчёт имён:
— Они не пропадают для потомства, но уже сейчас записываются в Золотую книгу. Раскроется она в тот день, когда заново начнут писать историю. Тогда Талейран, Меттерних, Бисмарк отойдут в тень, а на первый план выступят имена, никому доселе не известные.
С тех пор я не видел его двадцать пять лет.
Глядя теперь на подёргивающееся лицо, на глаза, лихорадочно следящие за погребальной гондолой, я понял, что все эти двадцать пять лет думал он об одном.
— Ну скажите — разве это не величайшее из всех убийств, если человеку, совершившему важный исторический подвиг, отказывают в занесении его имени в Золотую книгу?
В голосе его такое отчаяние, какого ещё не приходилось слышать. Несколько дней его не было. И вот опять:
— Вы мне должны помочь! Помочь!
Взялась откуда-то пачка бумаг. Он умолял их прочесть.
— В этом моё спасение!.. Моё спасение!
Это было слишком. Я отодвинул бумаги и попросил оставить меня в покое. Но покоя не было. Дома почувствовал, как раздражение перешло в щемящую жалость. В жизнь свою не слышал большего отчаяния, чем в голосе этого человека. Не отказал ли я в помощи страждущему? Не проявил ли чёрствость? В дверь постучались. Вошёл пожилой господин и заговорил со мной по-русски.
— Простите, но я пришёл умолять спасти моего несчастного брата. Вы знаете, о ком я говорю. Прочтя его бумаги или хотя бы сделав вид, что прочли, вы доставите ему величайшее облегчение, а если исполните после этого его скромную просьбу, то, может быть, — спасёте жизнь.
— Но кто вы и кто ваш брат? Я не знаю.
Посетитель горестно помолчал.
— Одно могу сказать: мы оба русские и такие же изгнанники, как вы сами. Имена наши… Чем они отличаются от десятков тысяч ничтожных, никому не нужных имён? Да и самое дело такое, что если бы в нём не было трагизма, могло бы показаться смешным. Вам лично оно ни с какой стороны не опасно. Моя просьба — это, в сущности, просьба о милосердии.
Увидев моё недоумение, он вынул знакомую мне пачку листов и положил передо мной.
— Прочтите хотя бы несколько из них, и вам станет ясно.
Листки были порядочной давности, написаны разными почерками без подписей. Только на двух-трёх стояла буква А.
— Это означает подпись Керенского, — пояснил незнакомец.
— Это не только не проясняет, но окончательно лишает меня понимания. При чём тут Керенский, и что означают странные распоряжения и приказы, писанные не на официальных бланках, без соблюдения формы, без дат, без указания фамилии, полные намёков и каких-то цифр. Не могу даже понять, к какому времени относится вся эта письменность.
— К лету 1917 года.
— Гм! Но о чём же тут?
— Вся эта переписка связана с Корниловским делом. С лишением генерала Корнилова звания верховного главнокомандующего и с заключением его в Быхове. Из этих листков должно явствовать, что брат мой играл главную роль в качестве доверенного лица и тайного советника Керенского. Он часто говорит — это его любимая тема, — что корниловские дни были поворотной точкой в мировой истории. Решена была судьба России, предопределён приход большевиков. У власти в те дни стоял масонский триумвират: Керенский-Некрасов-Терещенко. Самым главным был Керенский. Но брат уверяет, что неврастеник Керенский ни на что не годился, разве лишь быть простым исполнителем. Вся операция, связанная с провокацией и арестом Корнилова, разработана и проведена моим братом, державшим все нити в руках, несмотря на то, что находился в тени. Он этим гордился, считает это своим историческим подвигом. Бумаги, которые я вам принёс, должны, по его мнению, убедить в этом. Он случайно их спас и сохранил, заметив, как чьими-то происками его заслуги в этом деле стали замалчиваться. Это грозило ему опасностью не быть занесённым в «Золотую Книгу» и лишиться посмертной славы.
Тут я, как ни был хмуро настроен — расхохотался.
— Как можно лишиться славы, располагая таким богатым архивом?
Незнакомец терпеливо перенёс мой смех и, выждав минуту, заговорил снова.
— За целость этого архива мой брат как раз и боится. Он не может отдать его на сохранение ни в один институт, ни в одну библиотеку. Всюду масоны, и всюду бумагам грозит уничтожение. Последняя его надежда – вы. Он просит вас принять их и хранить до того дня, когда можно будет пристроить в надёжное место. Никому в мире кроме вас не доверяет.
— В своём ли уме ваш брат? Что я буду делать с этой макулатурой?..
— Вы его убьёте, если не согласитесь.
— Ну, это уж на шантаж похоже.
— Я вас умоляю не подозревать у меня таких намерений. Мой брат сейчас в очень тяжёлом состоянии.
— Но чего вы от меня хотите?
— Простого человеколюбия. Вы можете несколькими словами успокоить человека и предотвратить его душевный кризис, если сейчас пойдёте со мной и скажете то, о чём я вас просил.
В бедном отельчике на Lista di Spania, куда он меня привёл, сидел осунувшийся, пожелтевший, с горящими глазами мой парижский знакомец.
— Вы пришли?! Пришли?! Я знал, что вы не откажете. В этих бумагах моя душа, моё будущее, моё место в истории… Вы примете их, вы не совершите убийства — не уничтожите!
Я посмотрел на безумное лицо, на умоляющий взгляд его брата и дал согласие. Пакет хранился у него на груди и был ещё тёпел, когда он вручил мне его.
— Через несколько месяцев он будет в безопасности — уедет в Австралию. Но сейчас ему грозит опасность. Вокруг меня увиваются подозрительные личности. Пусть они убивают меня, но бумаги должны быть спасены.
— До каких же пор я должен хранить их у себя?
— К вам придёт пожилой господин. Имени своего не назовёт, но сделает знак пальцами. Вот так. Запомните этот знак. Вы ему без слов передадите мой пакет.
Целый месяц после этого не встречался с ним. Только однажды встретил его печального брата. Узнал, что бедняга скончался. Последняя его просьба была ко мне: хранить документы, пока таинственное лицо не придет за ними.
Мне стало грустно, и я отправился к своему любимому кафе с видом на остров вечного покоя и на чёрные кипарисы, поднимавшиеся над жёлтой стеной. Это было, как тогда, под вечер. Опять показалась похоронная гондола. Мне стало не по себе. Вспомнился несчастный мой знакомый, и наш разговор с ним в такое же вечернее время.
— Это он! Это он! — услышал я совсем рядом.
Говорил неизвестный господин, подсевший тихо и незаметно. Он указывал на гондолу.
В ответ на мой недоуменный взгляд, сделал пальцами тот странный знак, который показывал мне покойный.
— Ах, вот что!… Но у меня нет здесь с собой этих бумаг.
— А мне их и не надо. Можете себе оставить.
— Как?.. Неужели вы лишаете собрата и Золотой книги и посмертной славы?
— Гм! Не будь перед нами этой лодки Харона, уносящей останки нашего бедного безумца, я мог бы рассмеяться. Я никакой не «собрат», а он никакой не масон. Я только, подобно вам, терпеливо выслушивал его бред и ахинею о его подвигах в 1917 году. Ничего, кроме черносотенной премудрости, он не знал о масонах. Это вы ему наговорили про Золотую книгу, про посмертную славу и свели с ума.
— Но что же это за архив, что он мне оставил и который я должен вам передать?
— Там всё подделка. Ни одного подлинного документа. Это его собственное творчество. Имена, даты, события перепутаны. Он плохо знал историю 1917 года и быховские события. Свою собственную персону вставил туда некстати, словно для того, чтобы ясней была подделка… Интересовал он меня и привлекал своей психологией. Шутка ли, добиться вечной славы посредством фальшивых документов!..
Он хотел рассмеяться, но, взглянув опять на похоронную гондолу, снял шляпу и перекрестился — Царство ему небесное!..
Н. Ульянов
Николай Ульянов. Золотая книга.// «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 8, страницы 120-127


