Поделиться "Сергей Лифарь. Танец навсегда"
1,557 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
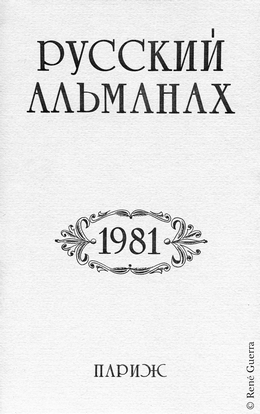 РУССКИЙ АЛЬМАНАХ. Париж, 1981. ТРИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РУССКИЙ АЛЬМАНАХ. Париж, 1981. ТРИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Мы продолжаем начатую в 6 номере публикацию материалов из «Русского альманаха», изданного в Париже в 1981 году. Редакторами и составителями этого уникального издания явились Зинаида Шаховская, Евгений Терновский и Ренэ Герра. Последний не только познакомил нас с альманахом, но и предоставил интереснейший иллюстративный материал к воспоминаниям танцовщика, хореографа и балетмейстера Сергея Лифаря (1904-1986), живописца и писателя Михаила Андреенко (1894-1982), историка, эссеиста и прозаика Николая Ульянова (1904-1985). Особо следует отметить публикуемые на цветной вкладке репродукции картин писателя и художника Сергея Шаршуна (1888-1975), «магического реалиста», близкого одно время к кругу дадаистов.
Сергей Лифарь. ТАНЕЦ НАВСЕГДА…
Как-то в Киеве советчики дали приказ: все молодые люди, родившиеся в 1903, 1904 и 1905 году, должны явиться в такой-то день и час на пристань Днепра. Действительно, я погрузился на «Свердлов», бывший «Император». Через несколько часов плавания, мучимый каким-то неясным предчувствием (которое меня не обмануло, так как через некоторое время этот пароход взорвался и тут же потонул со многими своими юными пассажирами), я бросился в воду, чтобы добраться до берега. Я долго боролся с течением, чтобы доплыть наконец до отлогого песчаного берега, покрытого местами тростником. И там я, обессиленный, бросился на землю. Когда я встал, то увидел возле себя какой-то песчаный бугорок, возбудивший моё любопытство. Я подошёл, порыл песок — и в моих руках очутилась… человеческая голова. Я до сих пор вижу эту голову казака, с его чубом, недавно отрубленную, зарытую в песок. Я на мгновение остолбенел с этой головой, похожей на Тараса Бульбу, в руках, один между небом, водой и тростниками. Мне было 16 лет. Здесь я прибавлю, что, когда это случилось, я не читал ещё «Гамлета». Когда через некоторое время я прочёл его, сцена с бедным Йориком отозвалась странным эхом в моем сознании. Литература смешивалась с жизнью.

Это была эпоха, когда музыка также волновала мою душу. Когда я начал готовиться в университет, я учился и в консерватории. Тогда и установился мой музыкальный вкус. Моцарта с его музыкой, в которой объединялись юность со зрелостью, я ставил выше всего. Напротив, Шопен ставил передо мной особую проблему: его произведения притягивали меня тем, что я называл чувственностью, и именно из-за этой страстности я избегал её. Мне слышалась в его музыке высокая, слишком певучая и резкая нота, сливавшаяся с той музыкой, которая была близка моему сердцу и меня раздражала; я читал её просто как фразу из его дневника. Однако, когда я играл её или слышал, я уже не различал: он ли был во мне или я в нём. Он был мне дорог.
Я написал это и думаю ещё сейчас, что это верно: воспитанный с детства на Глинке и Бородине, к русским композиторам я оставался всё же холоден. Я не скажу, что меня не волновали некоторые страницы «Бориса Годунова», но в общем — Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков оставались мне чуждыми. Мне кажется, что я не находил у них того, что меня восхищало у Пушкина и Моцарта: какую-то лёгкость, прозрачность, которые необходимы в том возрасте, который я переживал. Что мне кажется наиболее странным, это то, что только теперь я узнал их и по-настоящему полюбил.
Позже, думая о «Тристане и Изольде», о «Нюрнбергских Мейстерзингерах», о «Парсифале», я не мог сказать, какую из этих опер я предпочитал, но без них я не мог жить — я грезил ими ночью. Я грезил также Чайковским, который был всегда мне близок и оперы которого — «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама» — мне были хорошо знакомы и жили во мне. Дебюсси, Равель, Стравинский, Прокофьев были мне совершенно неизвестны.
Я всегда любил музыку. Для меня было всегда большой радостью сидеть у рояля и одну за другой разбирать мои любимые вещи. Я находил в музыке то же опьянение, что и в книгах, и чего в жизни мне недоставало. Я долго мечтал о карьере виртуоза — до того дня, когда, после оккупации белой армией, город был снова атакован большевиками. Белая армия была принуждена отступить. Тогда образовали отряд из пятидесяти гимназистов в Сокольской форме, в который входил и я, причислили его к 34-му Сибирскому полку, имевшему честь быть награждённым генералом Бредовым Георгиевским крестом. Генерал Драгомиров решил бросить нас в бой. Мы упорно сражались в неравном бою. Трещали пулемёты, свинцовый дождь сметал всю жизнь. Вдруг в нескольких шагах от нас с оглушительным грохотом взорвался снаряд большого калибра. Ошеломлённый силой взрыва, я едва отдал себе отчёт, что засыпан песком, летевшим со всех сторон. Почувствовав сильную боль в правой руке, я увидел, что она вся в крови. Мой старший брат Василий спас меня из этой резни, где большинство моих товарищей погибло. Когда прошёл первый страх при виде крови, первой мыслью было: «Моя рука! Как же я буду играть на рояли? Неужели останусь калекой?» Город был сдан. Меня лечили тайком какими-то случайными средствами. Осколок снаряда так глубоко врезался в мою руку, что рану пришлось зашивать. Обнаружилась гангрена. Пришлось рану заново открывать. Глядя на оставшиеся по сей день шрамы, я вспоминаю это время, решившее мое будущее: я должен был отказаться от карьеры музыканта.
В течение весны 1920 года мой отец, Василий и я — оба, служившие в белой армии, — имели все основания бежать от Чеки. Таким образом, нам пришлось искать убежища в далёких от города лесах. Одеты мы были в рубашки из сурового полотна и отрастили себе волосы. Я изредка возвращался тайком в Киев повидаться с семьей. Однажды вечером мы оказались в предместье Тараща, где находился проездом отряд красных кавалеристов. По вечерам, для общего удовольствия, своего и сельчан, они устраивали танцы. Гремели духовые инструменты, всё кончалось гомерическим весельем. Когда великороссы бросались исполнять удалую камаринскую, а украинцы плясали свой зажигающий гопак — полный восхищения, я еле- дил за их движениями. Всё было мощно и ловко в этом народном искусстве, которое позднее все увидели в балетах Моисеева. Моё сердце сильно колотилось, видя их прыжки, падения, человеческий волчок, уносимый в своём верчении. И вдруг эта буря сменялась медленной грацией. Я жадно следил за движениями танцоров. Во мне происходила работа — какое-то ещё неосознанное внутреннее брожение при виде этих инстинктивных движений, которых подлинное искусство ещё не тронуло.
Так понемногу я начал себя осознавать. Силы во мне накоплялись; и чем их было больше, тем сильнее была моя тоска. Не тогда, когда я был среди моих любимых книг или у рояля, но когда я сталкивался с тем, что другие называли настоящей жизнью. Никогда она не казалась мне более тусклой, более презренной. Юность всегда имеет в себе какое-то желание порядка и в то же время строгости, а также искание причины, из которой они исходят. Я жаждал этого, может быть, больше, чем другие. А вокруг меня было ужасающее зрелище упадка общества. Это было полное поражение духа и всех ценностей. Религия была осмеяна и разлагалась. Старшее поколение тонуло в разврате. У меня звучит ещё в ушах такая фраза: «О, что касается меня, то мне бы немножечко любви да десятка два папирос! » В этом действительно был предел и высший кругозор целого поколения, которое плыло по течению.
Государство, со своей стороны, начинало организовываться: Россия стала СССР. Большевизм покорил всю страну. Последние остатки белой армии сложили оружие, бои окончились с их эвакуацией из Крыма. Мы, грезившие о чуде, в виде помощи от Западных стран, были покинуты на произвол судьбы. После изгнания польской оккупационной армии Пилсудского, пробывшей месяц в Киеве в 1920 году, советское государство окрепло. Народ устал от войны и, хотя в душе своей он ещё не признавал Советов, но был доволен приходу русских, приходу своих. Я был теперь мобилизован в ряды красной армии. Мне исполнилось 16 лет. Из армии я был командирован в Университет — вуз, — но учёба меня не увлекла. Я пал духом и проводил время главным образом в курении. Сворачивая сигареты из случайно попавшего в руки табака, я курил до тошноты. Я бродил целыми днями по улицам Киева в компании товарища.
— Не пойти ли нам, — предложил он мне однажды, — к Брониславе Нижинской, балетмейстеру Киевской Оперы? У неё своя балетная студия. Там, говорят, есть красивые девушки. Там ты увидишь и мою сестру.
Так как делать мне было нечего, я согласился.
Студия меня совершенно пленила. Передо мной, в форме с красной звездой, под музыку Шопена и Шумана танцевали ученицы Нижинской. Не буду вдаваться в подробности — я хочу лишь сохранить эту картину, ещё теперь, на склоне моей жизни, стоящую передо мной: уйдя из мира, где царили неистовство и грохот, я нашёл здесь порядок и гармонию, настоящую дисциплину, в которой так нуждались моё сердце и моя душа.
Раз, два, три, четыре… Я совсем обезумел, но знал уже, что только здесь я найду надежду на внутренний мир. И на любовь. Так как этот порядок был порыв, ритм, союз тела и души, то есть любовь. Все другие образы и увлечения потухли во мне. На возвратном пути все мысли мои перемешались. Одно было ясно для меня: я войду в студию Нижинской, сестры легендарного Нижинского. На следующий день она мне отказала сухим, лаконическим тоном в зачислении меня в студию в качестве ученика. Это было для меня ужасным ударом. Мне посоветовали обратиться к директору городской Оперы и дирижеру оркестра, товарищу Штейману, на которого советская власть смотрела благосклонно и который поэтому пользовался влиянием.
— Будьте спокойны, товарищ Лифарь, — сказал мне Штейман. — Если она в свою школу вас не примет, вы будете не хуже учиться и здесь. Кстати, это она, Нижинская, руководит балетом моей Оперы и моей студии.
Кого только ни было в этой государственной Центральной Киевской студии! Молодые рабочие и сельские парни пришли сюда неизвестно почему… «Девицы» с Крещатика… Голодные интеллигенты, пришедшие с неясной надеждой, как на огонёк… Полный беспорядок, какого не найти нигде на свете!
Во время первого экзамена Нижинская написала против моего имени на листе жюри: горбатый! Это короткое слово долгое время безжалостно вертелось перед моими глазами. Я принёс медицинское свидетельство, удостоверяющее, что я не имею недостатков в моём сложении. Оно было выдано мне в моём полку, который выделил меня для занятий по искусству и в университете. Покинув университет, который кишел безграмотными, я подал прошение для артистической карьеры, в которой именно я оказался безграмотным. Горбатый! А то и контрреволюционер?! Так меня прозвали из зависти мои бывшие товарищи по гимназии, те, которые держались в стороне и образовали «кучку», которой принадлежал артистический авторитет и которую я игнорировал.
В школу Нижинской я всё же был зачислен и начал работать со страстью. Нижинская же нарочито меня «не замечала».
Перед Нижинской я испытывал страх, но и уважение, даже некое благоговение, как только я признал её единственной обладательницей сокровища, которым я решил овладеть во что бы то ни стало. Это я понял ещё лучше, когда всего через несколько месяцев стали передаваться среди учеников слухи, что Нижинская собирается со всей своей семьёй вырваться из-под советского ига, чтобы устроиться где-нибудь вне России, в свободном мире. Она уехала, бросив нас на произвол судьбы. Неужели моей судьбе стать танцором опять угрожает опасность? Но я не сдавался.
В истории танца Бронислава Нижинская является первой женщиной- творцом-хореографом, так как Айседора Дункан касалась принципов эстетики, но не композиции. Как и её брат, Нижинский, для которого она – вместе с Дягилевым — была с 1909 по 1914 год духовным вождём, методом и пониманием, Бронислава принадлежала к Императорской балетной школе. В 1921 году она покинула Россию и с 1921 по 1925 год возглавляла хореографическую жизнь Русских Балетов Дягилева.
Первым хореотворческим опытом Нижинской была «Свадебка» Стравинского в 1923 году. В следующем году это были «Лани» Пуленка. Затем, в 1925, помимо Русских Балетов — Этюды на музыку Баха, Вариации Бетховена, Концерт Шопена. Своими исканиями Бронислава оказывает влияние на таких людей, как Мясин или Баланчин. Что касается меня лично, то ни Дягилев, ни Фокин, ни Мясин или Баланчин, но именно Бронислава Нижинская оставила на мне художественную «печать», которая закрепила мою веру в танец, в его источник, в его тайну. Нижинская первая в своей методе объединила форму с эмоцией. У неё жест является знаком, символом. Танец побеждает тогда свою абстракцию; он становится гармонией движений, то есть совсем другим, чем традиционная школьная академическая техника. Это новое искусство дает отзвук в душе, которая переносит тело в состояние метафизическое — что есть основа моей эстетики. Бронислава Нижинская первая дала мне испить священный эликсир Красоты там, в родном Киеве, в России.
В 1921 году в Киеве началась эпоха НЭП-а. Торговля воспряла, открылись кафе. Наступило царство мелкой спекуляции. Киев как будто стал оживляться, но этот искусственный возврат к жизни придал ему вид подкрашенного мертвеца. Я старался уйти от такой жизни и находил в танце «далёкую обитель труда и нежных страстей».
Я работал один и как бы обезумевший. Надо сказать, что меня побуждала к этому Нюся Воробьёва — первая ученица Нижинской и большого актёра Давыдова: я жил под страхом в течение пятнадцати месяцев, принуждал себя к самому строгому аскетизму, работая без передышки. Один, перед зеркалом, я соперничал с моим двойником, которого я то ненавидел, то восхищался им. Он был моим учителем, я оставался всегда учеником. Раньше чем я встретил Кокто и подружился с ним, я был уже знаком с темой зеркала (темой, столь дорогой ему: правдивости между артистом и его двойником).
Я сознавал уже свой прогресс. Сперва это было в области техники, без которой, я это точно знал, не было танца, достойного называться этим именем. Но это происходило ещё более таинственным образом: ненавидя весь упадок, окружавший меня, мне оставалось лишь уйти в область мечтания, в мистически предчувствуемое искусство танца. В эту эпоху я обрёл уже ту форму искусства, которая стала затем моей, которой я отдавался всеми моими силами; мои друзья — книги по искусству — помогали мне в этом, раскрывали мне свои объятия, увлекали в свой волшебный круг.
Я весь ушёл в изучение истории танца. Я изучал её с увлечением, начиная с поучительных и священных истоков, связанных с первыми, инстинктивными сперва, обрядовыми, а вскоре лирическими движениями человека, и до Русских Балетов Сергея Дягилева, слухи о триумфе которого в Западной Европе дошли до нас, как и о Нижинском, Павловой, Карсавиной — покоривших Европу. Мне казалось, что я первый узнал об этом, понял, что танец есть искусство в плане всего человека и в его отношении к бесконечному и божественному. Эта мысль укрепила моё решение. Но пришёл я к этой истине, к этой иллюзии, от обмана самого себя, веря в свою непогрешимость, веря в новое искусство, родившееся во мне.
Моё одиночество стало во мне скрытой силой, моя неудовлетворённая чувственность превращалась в творческую мощь. В течение всей моей жизни мне сопутствовали некоторые образы-силы, я приобрёл их в течение моих одиноких юношеских лет. Это было для меня уроком жизни.
В один прекрасный день вся студия была возбуждена. Нижинская только что прислала телеграмму, которую я сохранил: «С. П. Дягилев просит — чтобы пополнить его труппу — прислать ему в Париж пять лучших танцовщиков учеников Нижинской». Они были выбраны. Пятый не явился. Тогда я принял решение: я поеду вместе с другими. Нюся Воробьёва поддержала меня перед товарищами, перед Нижинской в Париже и благословила на этот путь.
Я не буду останавливаться на страданиях, страхе, опасностях при дважды перейдённой польской границе под пулями, прицепившись снаружи вагона, с закоченевшими от холода руками до такой степени, что не мог отцепиться — и это меня спасло! Смерть, казалось мне тогда, была желанна, как избавление. Я умолчу о той неудержимой радости, как только мы были «по ту сторону»…
13 января 1923 года я был в Париже перед Сергеем Дягилевым.
О моём побеге я предупредил только мою мать, которую я видел тогда в последний раз. В момент прощания она меня благословила, и я видел в её глазах полный страха взгляд, который меня до сих пор преследует. Этот взгляд, такой чистый, полный страдания, был так похож на взгляд убитой мною из отцовского ружья лани, когда она проходила с водопоя совсем рядом со мной. Это был единственный раз, что я лишил кого-то жизни, и я никогда не забуду, как, умирая, она смотрела на меня со слезами на глазах и лизала мне руку.
Сергей Лифарь
Сергей Лифарь. Танец навсегда.// «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 8, страницы 108-114


