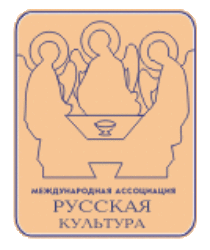Поделиться "Оксана Сабурова. Сквозь тьму из красок…"
1,846 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Оксана Сабурова. Родилась в Алма-Ате в 1971 году. После окончания средней школы переехала в Ленинград. В 1998 году окончила русское отделение филологического факультета СПбГУ, в 2002 – аспирантуру. Кандидат филологических наук. Тема диссертации «Русскоязычное творчество Владимира Набокова: проблемы игровой поэтики». Работала литературным редактором в различных петербургских книжных издательствах («Азбука», «Амфора», «Нева»). В настоящее время занимает должность ведущего редактора в издательстве «Сова». Жена Григория Сабурова.
Оксана Сабурова. Родилась в Алма-Ате в 1971 году. После окончания средней школы переехала в Ленинград. В 1998 году окончила русское отделение филологического факультета СПбГУ, в 2002 – аспирантуру. Кандидат филологических наук. Тема диссертации «Русскоязычное творчество Владимира Набокова: проблемы игровой поэтики». Работала литературным редактором в различных петербургских книжных издательствах («Азбука», «Амфора», «Нева»). В настоящее время занимает должность ведущего редактора в издательстве «Сова». Жена Григория Сабурова.
Моё имя — оторвыш,
И сердце моё — лоскуток,
Вера — капли дождя,
А мечты — тёплой пылью порога.
Сквозь земные пути
Пролетает упавший листок
И ложится, замёрзнув,
На тёплые волосы Бога1.
Гриша Сабуров родился 24 июня 1964 года в Ленинграде. Для его родителей рождение сына совпало с другим знаменательным событием — окончанием Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, где они вместе учились. И пока Гриша лежал вместе с матерью в роддоме, молодой отец, Александр Сабуров, получал дипломы выпускников ЛГИТМИКа и за себя, и за жену Галину.
По комсомольской путёвке вместе с маленьким Гришей они поехали в Красноярск, где им предстояло три года проработать в театре в качестве драматических актёров. Очень скоро стало ясно, что кроме сына молодых супругов ничего больше не связывает. Галина Сабурова вернулась в Ленинград, а Гриша остался с отцом, который очень скоро обзавелся новой семьёй и переехал в Назарово, небольшой городок под Красноярском. Мачеха не стала для него матерью, и, возможно, именно тогда, в детстве, у него родилось чувство собственной ненужности, незнакомое детям, растущим в тепличной обстановке родительского восхищения и заботы. Впоследствии это чувство определило его отношения с миром, и, видимо, этим чувством были продиктованы строчки его последнего стихотворения, обращённого к самому себе:
Прости меня за то, что я не смог
Понять тебя и выхватить из плена
Двух тысяч ста ненужных нам дорог;
За то, что я согнутого колена
Не разогнул, а лишь закрыл глаза.
Сквозь тьму из красок, радугу незрячих,
Летела, трепыхаясь, стрекоза.
Ломала крылья, умирала… Значит,
Ты рвался прочь — я не пускал тебя.
За вертикалью пыльного стекла
Кукожится чужое отраженье.
Для Гришиного отца те годы были самыми счастливыми. Интересная работа режиссёром в театре, друзья, любимая жена-красавица, рождение дочки Оленьки… Отцовский брак распался в одночасье через четыре года. Для отца это стало настоящей драмой, которую он тяжело переживал.
Вместе с Гришей они уехали в Новолукомль, белорусский городок, где отцу предложили должность режиссёра в детском самодеятельном театре. Гришина жизнь в то время не особенно отличалась от жизни большинства его сверстников: школа, рыбалка, игры с мальчишками, скромный холостяцкий быт их с отцом отдельной квартирки, в которой была собрана мебель многочисленных отцовских друзей. Денег на новую не было, но это было неважно. Отец был увлечён своим театром — ставил спектакли, актёрами в которых были дети: Гришины одноклассники и сам Гришка. А летом его отправляли в Ленинград, к бабушке. Бабушка любила и баловала внука. Эти каникулы были для Гриши радостным погружением в безоблачную атмосферу счастливого детства, когда ты ощущаешь себя центром земли, все твои немыслимые желания исполняются, а жизнь становится похожа на праздник.
Когда Грише было двенадцать лет, отец вступил в новый брак, и вскоре у Гриши появился младший братик Матвей. Брак был неудачным и длился несколько лет. Кроме постоянных ссор отца с новой мачехой и своих ссор со сводным братом, старшим сыном отцовской жены, у него мало что осталось в памяти от их семейной жизни.
Десятый класс Гриша заканчивал в Ленинграде, а отец, проработав какое-то время на заводе фрезеровщиком, перебрался в Сосновый Бор. Там его ждала работа режиссёром в народном театре.
Поначалу отношение ленинградских учителей к мальчику из провинции было довольно скептическим — какая у него может быть «подготовка»? Но он очень быстро освоился в новой школе, успешно её закончил и поступил в Ленинградский политехнический институт. Математика всегда давалась ему легко, а свои гуманитарные наклонности он считал некой блажью и развлечением.
В Политехе Гриша проучился полтора года. Впоследствии, работая кочегаром в котельной и из года в год бросая в топку уголь, он жалел, что ушёл из института — был бы инженером или ещё кем-нибудь, а так. Но в девят
надцать лет всё выглядело иначе. Были скучные лекции в институте, предэкзаменационная нервотрёпка и ночные бдения над учебниками и конспектами, прогулки с друзьями и подругами по Ленинграду, первая любовь по имени Люба, заботливая и нежная бабушка и увлекательнейшие занятия сочинительством. Он писал стихи:
В стремленье оживить слова
Дыханьем словно ниоткуда
Душа, подкидыш божества,
Болеет ожиданьем чуда…
Уйдя из института в январе 1983 года, Гриша оказался на заводе, а уже в апреле — в рядах Советской армии: был отправлен на Дальний Восток, в морскую пехоту. Местом его службы стала в/ч 40159, которая стояла недалеко от деревни Раздольное. «Пешком по волнам. Записки запасного мор- пеха» — так назывался первый сборник его рассказов. Для кого-то армия становится «школой жизни», другие обретают там полезную профессию, кто-то проходит там уроки подавления личности и унижения человеческого достоинства. Для Гриша армия стала источником вдохновения. Его армейские командиры и сослуживцы, пройдя сквозь «магический кристалл» памяти и творчества, превратились в чудаковатых героев его рассказов.

Возвращение в Ленинград было грустным. Заболела бабушка. У неё был диабет в прогрессирующей форме и атеросклероз. Гришу она так и не узнала. Она называла его Димой, это было имя её старшего сына. А Гришка для неё так и остался навсегда служить в армии. Обстоятельства сложились таким образом, что он оказался единственным человеком, который за ней ухаживал в течение последних шести лет её жизни. У них была комната в коммунальной квартире. Утром он сажал её в кресло, умывал, готовил завтрак, кормил из ложечки, колол инсулин, менял бельё — в общем, делал всё, что положено по уходу за больным человеком. Учёба, карьера — твёрдые ориентиры для благополучного социального роста — были отодвинуты на задний план. Вечерами, когда бабушка засыпала, Гриша любил гулять по городу, захаживая в попутные «рюмочные» и «разливочные». И продолжал писать стихи:
Красное облако трогал рукой.
Сердце в сумерках ощущений,
В сумерках плавают тени стремлений…
Нет ничего у меня за душой.
Выплеснуть, выжать ладонями, телом,
Звуком и смыслом, криком и сном
То, что находится в чёрном и белом.
То, что боишься и любишь, потом…
Бабушка умерла в ноябре 1990 года, через год после того, как мы поженились. Нашему сыну было тогда два месяца. Мы назвали его Александром, в честь Гришиного отца, который погиб в 1987 году. Гриша до конца своей жизни не мог освободиться от чувства вины перед бабушкой, Еленой Григорьевной. Ему казалось, что она умерла, потому что почувствовала, что больше никому не нужна.
Начало 1990-х годов было временем довольно голодным, и удобную работу телефонистом в одном из ленинградских НИИ пришлось оставить ради более денежной службы на заводе «Красный треугольник». А в марте 1992 года мы перебрались в посёлок Репино под Ленинградом, где Гриша устроился кочегаром в угольную котельную в Доме творчества кинематографистов. Конечно, никто не предполагал, что Репино будет последним его домом, а котельная — последней работой, которой он отдаст десять лет своей жизни. Мы поехали туда ненадолго, потому что у маленького Саши было слабое здоровье и хотелось немного пожить за городом, на свежем воздухе.
А кроме того, работа в котельной давала Грише уединение, необходимое для творчества. Он мечтал стать писателем. Ведь настоящие писатели — счастливейшие люди, различающие сквозь скуку, и серость, и мрак жизни тайную красоту мирозданья. Об этом он писал в своих стихах:
И тени в комнате, и стол, как небосвод,
Сознанье холодит, дрожат пустые руки.
Прошедшее за будущим встаёт,
Как в мареве чудовищной разлуки.
А звук, один, живёт за темнотой…
Напрягся разум, сети лексикона
Заброшены, измучась немотой.
Стучится сердце зло и беспокойно.
И память отражается в стекле,
Густеет воздух, ветер пахнет садом,
Испачкана в фонарном серебре
Стена, но лишнее, но лишнее — не надо!
Лишь звук, один, живёт за темнотой,
В нём сходятся мечта, судьба, желанье,
В нём, околдованное тайной красотой,
Перерождённое мерцает мирозданье.
Оксана Сабурова. Сквозь тьму из красок… // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 4, страницы 155-158
Скачать статью
Примечания