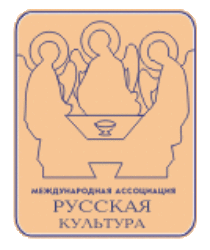Поделиться "Павле Рак. Кропоткин и современная биоэтика — взаимопомощь как фактор эволюции"
1,792 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Павле Рак (Pavle Rak, род. в 1950 г. в Белграде) — словенско-сербский писатель и переводчик. Участвовал в диссидентском движении в Белградском университете, из-за чего в 1980 году эмигрировал в Париж. Там с Татьяной Горичевой и Борисом Гройсом стал соучредителем журнала «Беседа». В 1990-1991 годах был послушником на Афоне. С конца 1990-х живёт в Словении. Автор нескольких книг, посвящённых православной духовной культуре. В русском переводе издал книгу «Приближения к Афону» (СПб., 1995; М., 2010).
Павле Рак (Pavle Rak, род. в 1950 г. в Белграде) — словенско-сербский писатель и переводчик. Участвовал в диссидентском движении в Белградском университете, из-за чего в 1980 году эмигрировал в Париж. Там с Татьяной Горичевой и Борисом Гройсом стал соучредителем журнала «Беседа». В 1990-1991 годах был послушником на Афоне. С конца 1990-х живёт в Словении. Автор нескольких книг, посвящённых православной духовной культуре. В русском переводе издал книгу «Приближения к Афону» (СПб., 1995; М., 2010).
Кропоткин и современная биоэтика — взаимопомощь как фактор эволюции
Дивен Бог в святых своих! Бесчисленны способы прославлять Творца и творение, и каждый человек находит свой. Этим, прежде всего, он говорит о себе. Удивительный человек Пётр Кропоткин прославил Творца своей добротой, своим желанием помочь человечеству, но также написав прекрасный гимн самым лучшим качествам его творения. Цель его, наверное, была иной: он был мыслителем, озабоченным человеческими судьбами, вопросами справедливости, организации общества, в котором каждому можно было бы жить достойно. Но получилась удивительная картина о том, что справедливые основания жизни заложены в самом творении, что нам стоит только присмотреться к природе и учиться у неё. Нечего придумывать, всё уже дано. Надо внимательно наблюдать за тем, как эту высокую науку жизни создают и осуществляют братья наши меньшие (или может быть старшие, более мудрые, ведь между ними мы никогда не встречаем такого оголтелого эгоизма, как среди людей, который приводит к крайней беде и масштабному уничтожению). Наука наших братьев — это наука любви, взаимной поддержки и помощи, и ей нам можно учиться у всех, — от «примитивных» муравьёв до дельфинов, китов и слонов, «стоящих высоко на лестнице жизни».
Непосредственная цель Кропоткина состояла в обосновании справедливого человеческого общества. Это цель политическая и социальная. Но доброта самого Кропоткина, позволившая ему проникнуть в познание мира животных, сделала своё дело: работа «Взаимопомощь как фактор эволюции» стала гимном премудрому Промыслу Божию, поскольку показала, что, помогая и служа друг другу, мы можем преодолеть любые угрозы и препятствия. А если мы будем следовать эгоизму сильных и алчных хищников ( борьба всех против всех и успешность самых сильных, как некоторые дарвинисты определяют основной закон эволюции), то под угрозой окажется и само наше существование.
Конечно, в первую очередь учение Кропоткина — это подлинный и благородный анархизм. Анархизм не в смысле бомбометания, как он часто воспринимается его противниками, а анархизм, который проповедует, что никому не нужна сильная, до зубов вооружённая централизованная власть, которая для обеспечения своих непомерных и неразумных (если за скобками оставить хищническую «разумность» общественных паразитов) расходов воссела на горбу всего населения. Мирную, благополучную, творческую жизнь обеспечивают не силовики, а взаимопомощь целокупного народа, целокупного человеческого рода. Утопия? Конечно, пока не попробовали, пока не осуществили. Но утопия, которая частично осуществлялась и в человеческом обществе (об этом Кропоткин подробно пишет), и между животными.
Книгу «Взаимопомощь как фактор эволюции» можно представить как собрание наблюдений, из которого вытекает определённый социологический вывод. Аналогичным образом можно было бы построить и настоящую статью. Но, на мой взгляд, такой подход был бы не совсем точным. Работа Кропоткина — это не научная монография, где основная идея постепенно развивается в соотношении с собранными фактами. Он нагромождает факты именно как иллюстрацию выводов, которые делаются автором на другой почве, — в социальной лаборатории, где он работает с особым методом толкования истории на основе единичных наблюдений. Многочисленные факты в основном появляются позже, — уже в подтверждение идеи. (Схожим образом будет построена и настоящая статья: вначале мы представим основную идею, а потом дадим слово иллюстрациям, в большей степени их цитируя, а не пересказывая. В пересказе эти прекрасные иллюстрации чаще всего потеряли бы яркость.) Но раз уж книга Кропоткина является собранием иллюстраций к «заданной» идее, можно на те же самые факты смотреть и как на иллюстрацию аналогичного вывода, только в этот раз уже метаисторического: те же детали из жизни могли бы продемонстрировать, как на зоологическом и историческом материале проявляется работа Промысла Божия, который, конечно, предшествовал всем фактам. Собрание фактов в таком случае говорит о том, кто в мире исполняет волю Божию, а кто — нет. Сам Кропоткин вопрос подобным образом не ставил, но мы попробуем это сделать в качестве рабочей гипотезы. Мир Божий устроен так, чтобы исполнение Его заповедей было прямым путём к благополучию человека и животных. И наоборот, каждое отступление от основного требования взаимопомощи и любви отражается на трудностях в плане выживания. Грабёж, кража, обман — это мнимый выигрыш, выигрыш на короткий срок: виду от этого не будет легче, само его существование окажется под угрозой. В пользу нашей гипотезы о божественном происхождении взаимопомощи говорит ещё и тот факт, что самые яркие примеры взаимопомощи мы находим именно у довольно примитивных организмов (пчёлы, муравьи), там, где в высшей степени проявляется Божия рука, а в делах «венца творения», где уже вступают в силу отношения человека и дьявола, мы видим всё больше и больше сознательного нарушения принципа взаимопомощи, всё больше цинизма, одним словом, — зла.
Учение Кропоткина основано на многочисленных личных наблюдениях над жизнью животных, а также на превосходном знании научной литературы. Вывод несомненен: в самом распространённом своём виде теория эволюции оболгала животных. «Я не находил, — хотя и тщательно искал её следов, — той ожесточённой борьбы за средства существования среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, которую большинство дарвинистов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали, как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь, и как главный фактор эволюции». Напротив, в жизни животных преобладают жертвенность и солидарность, и для подтверждения идеи о благородстве животных Кропоткин приводит множество конкретных примеров.
Займёмся ими.
Первое и основное, что говорит против дарвинистской идеи об оголтелом соревновании в мире животных, — это инстинкт общительности. Кропоткин, кажется, идёт мелкими шагами. Он реалист. Дифирамбы по поводу поведения животных неуместны, мы начинаем с малого: речь идёт не об исключительно высоких нравственных качествах, а о злободневной прозе. Животными движет «чувство несравненно более широкое, чем любовь или личная симпатия, — здесь выступает инстинкт общительности, который медленно развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно долгого периода эволюции, с самых ранних её стадий и который научил в равной степени животных и людей сознавать ту силу, которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и поддержку, и сознавать удовольствия, которые можно найти в общественной жизни». В этом нет никакого «романтизма». Конечно, для кого-то выглядело бы эффектнее, «красивее», если бы тварь Божия изначально была наделена любовью и от этой любви не отступала. (Хотя как бы в таком случае было со всей икономией спасения, если бы не было ни грехопадения, ни искупления, ни обожения человека и всей твари?) Нет, Кропоткин не романтик и не идеолог, а естествовед. Он старается исследовать, как благородные чувства строились и как они действуют в природе. Его подход активный: если знаем механизм определённого явления, легче будет воспроизвести его в жизни человеческого общества.
Итак, начнём с того конца, с которого заходит Кропоткин. Для него актуальна теория Дарвина, которая не только была весьма популярна в научных кругах того времени, но ещё и послужила моделью объяснения общественных процессов. Сегодня можно сказать, что социал-дарвинизм не потерял актуальности, ведь то, что называется неолиберализмом, пользуется весьма схожими категориями всеобщей и беспощадной борьбы за первенство внутри вида, свободной конкуренции, алчности и жадности как двигателями прогресса. Уместно упомянуть и саморегулирование или, скорее, отсутствие регуляции (дозволенность почти всех приёмов в финансовом секторе), вошедшее в основу сегодняшней экономической теории. Кто сильнее, тот и побеждает. Доказательство тому — якобы что и в природе двигателем развития была борьба всех против всех. Так ли оно получается у Дарвина? Нет, — говорит Кропоткин.
В работе «Происхождение человека» (1871) Дарвин показал, как «в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ совершенно исчезает, и как, вместо борьбы, является содействие (кооперация), ведущее к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которое обеспечивает данному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал, таким образом, что в этих случаях „наиболее приспособленными“ оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее, или ловче других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга, как сильных, так и слабых, — ради блага всего своего общества». Вот великая тайна выживания и развития вида. Кропоткин продолжает: «Как фактор эволюции, т. е., как условие развития вообще — она, по всей вероятности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, потому что способствует развитию таких привычек и свойств, которые обеспечивают поддержание и дальнейшее развитие вида, при наибольшем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной особи, и в то же время, при наименьшей бесполезной растрате ею энергии, сил.
<…> Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать борьбу за существование, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения, это — изобилие фактов взаимной помощи, практикуемой не только в целях воспитания потомства, как это признаётся большинством эволюционистов, но также и в целях безопасности особи и добывания ею необходимой пищи. Во многих обширных подразделениях животного царства взаимная помощь является общим правилом. Взаимная помощь встречается даже среди самых низших животных, и мы, вероятно, узнаем когда-нибудь от лиц, изучающих микроскопическую жизнь стоячих вод, о фактах бессознательной взаимной поддержки, даже среди мельчайших микроорганизмов».
А вот как Кропоткин защищает от распространённой клеветы милого и любимого им воробья: «…как охотно каждый из них делится всякой находимой им пищей с членами того общества, к которому он принадлежит <…> Правда, воробьи с чрезвычайной щепетильностью охраняют свои владения от вторжений чужаков; так, например, воробьи Люксембургского сада в Париже жестоко нападают на всех других воробьёв, которые пытаются, в свою очередь, воспользоваться садом и щедростью его посетителей; но внутри своих собственных общин или групп они чрезвычайно широко практикуют взаимную поддержку, хотя иногда дело и не обходится без ссор, — как это бывает, впрочем, даже между лучшими друзьями». Если всё это перевести на язык межчеловеческих отношений и посмотреть с точки зрения этики, то выходит, что бедные воробьи не дотягивают до императива, сформулированного Кантом: поступай так, чтобы твоё поведение могло стать всеобщим принципом. Да, они охотно делятся внутри своей группы, а чужих сурово отгоняют. Но скажем честно — большинство «добрых» людей делают то же самое: в любом межнациональном или межрегиональном споре тянут одеяло на себя и «свою» группу. Охотно верят пропаганде собственных властей, да и сами готовы врать, если вступят в разговор с иностранцами. В среде своих они «добрые», а по отношению к чужим, — уже как придётся. Справедливость справедливостью, но почти все, и почти автоматически, взвешивают, что будет полезно для «нашего дела». Но чего в воробьиных общинах нет, а у людей повсеместно наблюдается, это страшная и беспредельная алчность и грабёж по отношению к «своим». Если даже какой-то воробей и съест в два или три раза больше других, это в два или три раза. И этим он доволен. Ау людей некоторые считают, что заслуживают и в миллион раз больше других, да и тогда, когда под себя подгребли миллиардные капиталы, и дальше готовы отнимать у бедняка его скромный кусок. До такого воробьи не додумались или, скорее, они эту стадию развития давным-давно преодолели. Не усвоив общественные инстинкты, они как вид не выжили бы. А человеку пока всё равно, — пусть пропадёт всё пропадом. Не только «чужаков», но и весь собственный вид, а с ним и всю планету человек ради собственной «выгоды» толкает в пропасть. В мире нечеловеческом так ведут себя, кажется, только растения, борющиеся за доступ к солнцу, обрекая своей «жадностью» на гибель или жалкое прозябание меньших сородичей.
Не одни воробьи, а множество животных, даже если они ведут себя «не универсально», могут быть примером для человека. «Коршуны также охотятся за быстрою скопою-рыболовом и отнимают у неё наловленную ею рыбу; но никому ещё не приходилось наблюдать, чтобы коршуны дрались за обладание похищенной таким образом добычей». Так сплошь и рядом. Человек со своей «аристократией», «олигархами» или «элитой» — назовите как хотите — далеко позади животных.
«Возьмите, например, одно из бесчисленных озёр русских или Сибирских степей, раннею весною. <…> Везде жизнь бьёт ключом. Но вот и хищники — „наиболее сильные и ловкие“, как говорит Гекели, „и идеально приспособленные для нападения“, как говорит Северцов. И вы слышите их голодные, жадные, озлобленные крики, когда они, в продолжение целых часов выжидают удобного случая, чтобы выхватить из этой массы живых существ хотя бы одну беззащитную особь. Но лишь только они приближаются, как об их появлении возвещают дюжины добровольных часовых, и сейчас же сотни чаек и морских ласточек начинают гонять хищника. Обезумев от голода, он, наконец, отбрасывает обычные предосторожности; он внезапно бросается на живую массу птиц; но, атакованный со всех сторон, он снова бывает вынужден отступить. В порыве голодного отчаяния он набрасывается на диких уток; но смышлёные общительные птицы быстро собираются в стаю и улетают, если хищник оказался рыбным орлом; если это сокол, они ныряют в озеро; если же это коршун, — они поднимают облака водяной пыли и приводят хищника в полное замешательство».
«Болотный куличек славится своей бдительностью и уменьем делаться вожаком более мирных птиц. Близкий предыдущей „переводчик“, когда он окружён товарищами, принадлежащими к более крупным видам, предоставляет им заботиться об охране всех, и даже становится довольно боязливою птицею; но когда ему приходится быть окружённым мелкими пташками, он принимает на себя, в интересах сообщества, обязанности часового и заставляет себя слушаться».
«Сокол свил своё гнездо на верхушке одного из тех глиняных минаретов, которых так много в каньонах Колорадо, а колония ласточек жила непосредственно пониже его. Маленькие миролюбивые птички не боялись своего хищного соседа: они просто не позволяли ему приближаться к своей колонии. Если он это делал, они немедленно окружали его и начинали гонять, так что хищнику приходилось тотчас же удалиться».
В таком виде нам предстаёт основная идея Кропоткина. Взаимопомощь есть один из существеннейших способов выжить. Но если мы обратимся к конкретным примерам взаимной помощи, то картина значительно меняется. Скоро начинает бросаться в глаза, что инстинкт не ограничивается обеспечением простого выживания — общества или индивидуума, не имеет значения. Даже у маленьких насекомых, которых мы склонны рассматривать как «примитивные организмы», мы находим образцы поведения, вполне заслуживающие высокую моральную оценку. «Основною чертою жизни многих видов муравьёв является тот факт, что каждый муравей делится и обязан делиться своей пищей, уже проглоченной и отчасти переваренной, с каждым членом общины, предъявляющим на неё требование. Два муравья, принадлежащие к двум различным видам или к двум враждебным муравейникам, будут, при случайной встрече, избегать друт друга. Но два муравья, принадлежащие кодномуи тому же муравейнику или к одной и той же колонии муравейников, всегда подходят друг к другу, обмениваются несколькими движениями щупалец, и „если один из них голоден или чувствует жажду, и в особенности, если у другого в это время зобик полон, то первый немедленно просит пищи“. Муравей, к которому таким образом обратились с просьбой, никогда не отказывает; он раздвигает свои челюсти и, придав телу надлежащее положение, отрыгивает каплю прозрачной жидкости, которая слизывается голодным муравьём. <…> Если бы какой-нибудь муравей с полным зобиком оказался настолько себялюбивым, что отказал бы в пище товарищу, с ним поступили бы как с врагом, или даже хуже. Если бы отказ был сделан в такое время, когда его сородичи сражаются с каким-либо иным видом муравьёв, или с чужим муравейником, они напали бы на своего жадного товарища с большим ожесточением, чем на самих врагов».
Всё описанное можно понять как выражение основного инстинкта сохранения рода. Теперь посмотрите, что идёт дальше: «Но если бы муравей не отказался накормить другого муравья, принадлежащего к вражескому муравейнику, то сородичи последнего стали бы обращаться с ним, как с другом». Здесь, если это трактовать как обычай помочь другому, конечно, речь также идёт об основном инстинкте сохранения, но появляется и совсем иной принцип. Инстинкт велит смотреть на чужака как на врага. Но иногда инстинкт бывает одолён чувством жалости к страдающему врагу! Циник бы сказал: муравей, неразумная тварь, просто ошибся. Да, ошибся? Но зачем «ошибка» продолжается? Зачем однажды накормленные враги, да не только они, но и их сородичи, умеют во вражеском стане отличить друга и к нему обращаться по-дружески? Значит, ошибки не было, а явное благодеяние порождает явную благодарность!
Близкий пример касается пчёл: «они вовсе не отличаются кровопролитными наклонностями и любовью к бесполезным битвам, которыми многие писатели так охотно наделяют всех животных. Часовые, охраняющие вход в улей, безжалостно убивают всех пчёл-грабительниц, стремящихся проникнуть к ним; но пчёлы-чужаки, попадающие по ошибке, остаются не тронутыми, в особенности, если они прилетают обременённые запасом собранной цветочной пыли, или если это — молодые пчёлы, которые могут легко сбиться с пути. Таким образом, военные действия сводятся к строго необходимым». По отношению к чужакам практикуется строгое обнаружение и различение их намерений, и действия в их адрес совершаются не автоматически, а с «гуманной» разборчивостью.
В мире насекомых нет автоматизма, сколь бы это ни противоречило общепринятому мнению. Существуют инстинкты, противоположные инстинкту общности. Как и среди людей, между прочим. Разница между людьми и насекомыми только в том, что в человеческом мире эти инстинкты, разрушающие взаимопомощь, превалируют. Поэтому у пчёл реже случаются общественные катастрофы. «Общественность пчёл тем более поучительна, что хищнические инстинкты и леность продолжают существовать среди них и вновь проявляются каждый раз, когда тому благоприятствуют обстоятельства. Известно, что всегда имеется некоторое количество пчёл, которые предпочитают жизнь грабителей трудолюбивой жизни рабочего; причём в периоды скудности, как и в периоды необычайного изобилия пищи, число грабителей быстро возрастает. Когда жатва кончена и на наших полях и лугах остаётся мало материала для выводки мёда, пчёлы-грабительницы появляются в большом числе: с другой стороны, на сахарных плантациях Вест-Индии и на рафинадных заводах Европы грабёж, леность и очень часто пьянство становятся обычным явлением среди пчёл. Мы видим, таким образом, что противообщественные инстинкты продолжают существовать среди пчёл, но естественный подбор беспрерывно должен уничтожать их, так как в конце концов практика взаимности оказывается более выгодной для вида, чем развитие особей, одарённых хищническими наклонностями. „Наиболее хитрые и наиболее бесцеремонные“, о которых говорил Гекели, уничтожаются, чтобы дать место особям, понимающим выгоды общительной жизни и взаимной поддержки». Можно представить, как процветало бы человеческое общество, если бы вело себя приблизительно так же! Конечно, не имеется в виду уничтожение грабителей, но их полная изоляция и нейтрализация — что было бы довольно легко осуществить, лишь бы возникло настоящее желание, присущее всему обществу. Но нет, нам важнее свободная конкуренция.
Разумеется, не только среди муравьёв и пчёл, но и у других живых существ отмечается наличие как дружественного, так и эгоистического поведения. Например, Кропоткин упоминает об «эгоистках-гусынях, отдающих на произвол судьбы сирот, оставшихся после убитой подруги, и рядом с ними — других гусынь, которые заботятся о таких сиротах и плавают, окружённые 50-60 малышами, о которых они заботятся, как будто все были их родными детьми».
Можно пойти дальше, приводя множество нравственно «чистых» примеров, когда никто ни у кого ничего не отнимает, а все лишь друг другу помогают. «Даже такие сварливые животные, как крысы, которые вечно грызутся между собою в наших погребах, достаточно умны, чтобы не только не ссориться, когда они занимаются грабежом кладовых, но чтобы оказывать помощь друг другу во время своих набегов и переселений. Известно, что они иногда даже кормят своих инвалидов». Где тут закон эволюции, согласно которому сильные обязательно обрекают на гибель слабых, и только так обеспечивается развитие вида? Где тут доморощенное ницшеанство крыс. Где крысы набрались христианской морали?
«Бобровая, или мускусная крыса Канады (наша ондатра) и выхухоль отличаются высокою общественностью. Одюбон с восхищением говорит об их „мирных общинах“, для счастья которых нужно только, чтобы их не тревожили». Подобно всем общительным животным, они жизнерадостны, игривы, легко соединяются с другими видами животных и вообще о них можно сказать, что они достигли высокой степени умственного развития. При постройке их поселений, всегда расположенных на берегах озёр и рек, они, по-видимому, принимают в расчёт изменяющийся уровень воды, говорит Одюбон; их куполообразные жилища, сбитые из глины с камышом, имеют отдельные уголки для органических отбросов; а их залы, в зимнее время, хорошо устланы листьями и травою: в них тепло, но в то же время они хорошо проветриваются. Что же касается до бобров, которые, как известно, одарены чрезвычайно симпатичным характером, то их поразительные плотины и поселения, в которых живут и умирают целые поколения, не зная других врагов, кроме выдры и человека, представляют поразительные образцы того, что может дать животному взаимная помощь для сохранения вида, для выработки общественных привилегий и для развития умственных способностей».
Среди животных встречается много явлений, не имеющих отношения к инстинктам выживания и продолжения вида. Речь уже идёт не о простой необходимости, а об избыточном ощущении, — об удовольствии быть вместе, о радости жизни, которая состоит не в накоплении денег (или их эквивалента в жизни животных), а в совместных движениях, пении, игре. Конечно, есть игра, которая является частью обучения детёнышей, и такая игра вполне совместима с идеей «междоусобной борьбы». Но совместные полёты птиц (не в целях сезонных переселений) или их совместное пение — здесь уже нет никакой борьбы, никакого соревнования. Это чистое удовольствие быть вместе и наслаждение дружбой.
«Поселения „луговых собак“ (Cynomys) в прериях Северной Америки представляют одно из самых привлекательных зрелищ. Насколько глаз может охватить пространство прерии, он везде видит маленькие земляные кучки, и на каждой из них стоит зверёк, ведущий самый оживлённый разговор со своими соседями, путём отрывистых звуков в роде лая. Как только подан кем-нибудь сигнал о приближении человека, все в одно мгновение ныряют в свои норки, исчезая как по волшебству. Но, как только опасность миновала, зверки немедленно выползают. Целые семьи выходят из своих нор и начинают играть. Молодые царапают и задирают друг друга, ссорятся, грациозно становятся на задние лапки, тогда как старики стоят на страже. Целые семьи ходят в гости друг к другу, и хорошо протоптанные тропинки между земляными кучами показывают, что такие посещения повторяются очень часто».
«Тем не менее, мне приходится повторить относительно сурков то же, что я сказал о пчёлах. Они сохранили свои боевые инстинкты, которые и проявляются у них в неволе. Но в их больших сообществах, в общении с вольной природой, противообщественные инстинкты не имеют почвы для своего развития, и в конечном результате получается мир и гармония».
После всего сказанного никак не удивляет то обстоятельство, что у животных мы находим такие вроде бы чисто «человеческие» явления, как спорт и игра: «Общительный гриф — одна из самых сильных пород коршунов, — получил самое своё название за любовь к обществу. Они живут огромными стаями, и в Африке попадаются горы, буквально покрытые, в каждом свободном местечке, их гнёздами. Они положительно наслаждаются общественной жизнью и собираются очень большими стаями для высоких полётов, составляющих своего рода спорт. „Они живут в большей дружбе“, говорит Ле Вальян, и „иногда в одной и той же пещере я находил до трёх гнёзд“. Коршуны Урубу в Бразилии отличаются, пожалуй, ещё большей общительностью, чем грачи, говорит Бэтс».
Сокол пустельга (Tinnunculus cenchris) «в степях южной России… ведёт (вернее, вёл) такую общительную жизнь, что Нордмал видал его в больших стаях, совместно с другими соколами (Falco tinnculus, F. oesulon и F. subbuteo), которые собирались в ясные дни около четырёх часов пополудни и наслаждались своими полётами до поздней ночи. Они обыкновенно летели все вместе, по совершенно прямой линии, вплоть до известной определённой точки, после чего немедленно возвращались по той же линии и затем снова повторяли тот же полёт».
«Молодые выводки собираются тогда в сообщества молодёжи, в которые обыкновенно входит по нескольку видов. Общественная жизнь практикуется в это время главным образом ради доставляемого ею удовольствия, а также, отчасти, ради безопасности. Так мы находим осенью в наших лесах сообщества, составленные из молодых кедровок (Sitta coesia), вместе с синицами, зябликами, корольками, пищухами и зелёными дятлами. В Испании, ласточки встречаются в компании с пустельгами, мухоловками и даже голубями».
«В сущности, гораздо легче было бы описать все виды, ведущие изолированную жизнь, чем поименовать те виды, которых молодёжь составляет осенние сообщества, вовсе не в целях охоты и гнездования, а лишь только для того, чтобы наслаждаться жизнью в обществе и проводить время в играх и спорте, после тех немногих часов, которые им приходится отдавать на поиски за кормом».
«В настоящее время нам известно, что все животные, начиная с муравьёв, переходя к птицам и кончая высшими млекопитающими, любят игры, любят бороться и гоняться один за другим, пытаясь поймать друг друга, любят поддразнивать друг друга и т. д. И если многие игры являются, так сказать, подготовительной школой для молодых особей, приготовляя их к надлежащему поведению, когда наступит зрелость, то наряду с ними имеются и такие игры, которые, помимо их утилитарных целей, вместе с танцами и пением, представляют простое проявление избытка жизненных сил — „наслаждения жизнью“, и выражает желание, тем или иным путём, войти в общение с другими особями того же, или даже иного вида. Короче говоря, эти игры представляют проявление общительности в истинном смысле этого слова, являющейся отличительной чертой всего животного мира».
Возможность спорта, игры, удовольствий… да, «именно — удовольствий, так как чрезвычайно трудно определить, что сводит животных вместе: потребность ли во взаимной защите, или просто удовольствие, привычка чувствовать себя окружённым своими сородичами. Во всяком случае, наши обыкновенные зайцы, которые не собираются в сообщества для совместной жизни и даже не одарены особенно сильными родительскими чувствами, тем не менее не могут жить без того, чтобы не собираться для совместных игр. Дитрих Де-Винкелль, считающийся лучшим знатоком жизни зайцев, описывает их как страстных игрунов, которые так опьяняются процессом игры, что известен случай, когда разыгравшиеся зайцы приняли подкравшуюся лисицу за товарища по игре».
«В Европе трясогузки, не только гоняются за теми хищными птицами, которые могут быть опасны для них, но также и за ястребами рыболовами — „скорее для забавы, чем для нанесения им вреда“, говорит Брэм. В Индии, по свидетельству доктора Джердона, галки гоняются за коршунами (Gowinda) „просто для развлечения“; а князь Вид (Wied) говорит, что бразильского орла, urubitinga, часто окружают бесчисленные стаи туканов („насмешников“) и классиков (птица, находящаяся в близком родстве с нашими грачами) и издеваются над ним. „Орёл, — прибавляет Вид, — обыкновенно относится к подобным надоеданиям очень спокойно; впрочем, от времени до времени, он таки схватит одного из пристающих к нему насмешников“».
Одному зоологу «пришлось наблюдать бесчисленное стадо чакаров, покрывавшее всю равнину, но на этот раз не разбитое на отделы, а разбросанное парами и небольшими группами. Около девяти часов вечера, «внезапно вся эта масса птиц, покрывавшая болота на целые мили кругом, разразилась могущественной вечернею песней… Стоило проехать сотню миль, чтобы послушать такой концерт. К вышеприведённому можно прибавить, что чакар, подобно всем общительным животным, легко делается ручным и очень привязывается к человеку. О них говорят, что „это — очень миролюбивые птицы, которые редко ссорятся“, хотя они хорошо вооружены и снабжены довольно грозными шпорами на крыльях. Жизнь сообществами делает, однако, это оружие излишним».
«Жизнь сообществами была бы совершенно невозможна без соответственного развития общественных чувств, и в особенности если бы известное коллективное чувство справедливости (начало нравственности) не развивалось и не обращалось в привычку. Если бы каждый индивидуум постоянно злоупотреблял своими личными преимуществами, а остальные не заступались бы за обиженного, никакая общественная жизнь не была бы возможна. Поэтому у всех общительных животных, в большей или меньшей степени, развивается чувство справедливости». Нравственность находится ещё на шаг выше от социального поведения, подчинённого игре или удовольствиям. Это уже высшая «надстройка» в поведении животных. В нравственности нет прямой необходимости обеспечить выживание вида, нет даже никакого получаемого удовольствия, а часто бывает одна тягота. «Если какой-нибудь ленивый (или молодой) воробей пытается овладеть гнездом, которое вьёт его товарищ, или даже украдёт из него несколько соломинок, вся местная группа воробьёв вмешивается в дело против ленивого товарища; и, очевидно, что если бы подобное вмешательство не было общим правилом, то сообщества птиц для гнездования были бы невозможны». «Стансбюри видел слепого пеликана, которого кормили, и при том хорошо кормили другие пеликаны рыбой, принося её из-за сорока пяти вёрст».
Посмертное почтение у обезьян идёт ещё дальше, в нём трудно отыскать хоть какую-то пользу для общества: «Даже орлы не решаются нападать на обезьян. Наши поля они всегда грабят стаями, причём старики берут на себя заботу о безопасности сообщества. Маленькие ти-ти, детские личики которых так поразили Гумбольдта, обнимают и защищают друг друга от дождя, обвёртывая хвосты вокруг шей дрожащих от холода сотоварищей. Некоторые виды с чрезвычайной заботливостью относятся к своим раненым товарищам, и во время отступления никогда не бросают раненого, пока не убедятся, что он умер, и что они не в силах возвратить его к жизни. Так, Джемс Форбз рассказывает в своих „Oriental Memoirs“ („Записках о Востоке“), с какой настойчивостью обезьяны требовали от его отряда выдачи им трупа одной убитой самки, причём это требование сделано было в такой форме, что вполне понимаешь, почему „свидетели этой необычайной сцены решили впредь никогда не стрелять в обезьян“».
Итак, мы прошли длинный путь от инстинкта выживания, через игру и забаву, до жертвенности и благоговения перед мёртвыми членами общины. А сейчас несколько слов о доводах Кропоткина, которые он адресует нашему человеческому виду. Основной касается принципов эволюции и довольно просто выражается: «„Избегайте состязания! Оно всегда вредно для вида, и у вас имеется множество средств избежать его!“ Такова тенденция природы, не всегда его вполне осуществляемая, но всегда ей присущая. Таков лозунг, доносящийся до нас из кустарников, лесов, рек, океанов». Принцип этот является основой выживания в мире Божием. Когда мы говорим «основой», то имеем в виду буквально то, на чём стоит жизнь, что получается и регулируется более или менее автоматически.
Высшие ценности, «надстройка», этика, удовольствие, игра — это уже результат развитой чувствительности. В этике играет роль не столько жизненный прагматизм (цели выживания), сколько «проигрышное» сострадание. «Сострадание необходимо развивается при общественной жизни. Но сострадание, в свою очередь, указывает на значительный общий прогресс в области умственных способностей и чувствительности. Оно является первым шагом на пути к развитию высших нравственных чувств и, в свою очередь, становится могущественным фактором дальнейшей эволюции». На следующем шаге можно продолжать и длить созидание дальше, входить в мир жизненной радости.
Как случилось, что человек забыл то, чему его научила природа, что ему ежедневно показывают сотни и тысячи видов животных? Неужели дьявол обольстил его одного? Нет, в мире животных тоже есть и жадные, и себялюбивые, и ленивые. Но их количество минимально, и их способ поведения не поощряется. Только в человеческом обществе, сегодня особенно, всячески поддерживаются соревнование, борьба, конкуренция, уничтожение друг друга. Успех человека — это поражение его ближнего. На этом принципе строятся не только политика и экономика (т. е. то, что людям позволяет выжить), но и искусство (в живописи и музыке постоянно проходят конкурсы, в которых надо «побеждать», в кинематографе чудовищное количество ненужного насилия, прямо насаждающего определённый менталитет, когда насилие становится чем-то «нормальным»). А в наивысшей степени соревнование, унижение другого, более слабого, является сущностью спорта, которым одурманено сегодняшнее человечество. В спорте впрямую употребляется военная, кровожадная риторика. Как далёк сегодняшний человеческий спорт от того, что можно наблюдать у животных. Прежде всего, человеческий спорт отличается ненужным насилием, ненужным причинением другому телесной или душевной боли. Но именно спорт сегодня является моделью общества. Быть победителем во всём и всегда — вот идеал, которому учат всех от стара до млада. Конечно, есть люди сопротивляющиеся, которые поняли, к чему их призывают, и предпочитают радость совместной жизни и взаимопомощь. Поэтому всё, что мы пишем о Кропоткине и животных, ещё имеет смысл. В противном случае можно было бы погасить свет и закрыть лавочку. Навсегда.
Приближаясь к концу обзора, мы оставили непрояснённым его начало: к кому относятся слова «Дивен Бог в святых своих!»? Кто его больше прославил? Мудрый и добрый человек Пётр Кропоткин, написавший о совершенстве творений Божиих, или сами эти творения — своими действиями, своим поведением? И тот, и те! Премудрость Божия заключается в том, что где бы он ни был, в ком бы он ни был, он дивен! Наше дело — открыть для себя его красоту. Оценить её в другом. Поддерживать друг друга. Увидеть, что Бог прославился в Петре Кропоткине, и в бесчисленных животных, которым он предложил самый прекрасный путь развития, как вида, так и отдельно взятых существ: путь взаимной помощи.
Павле Рак. Кропоткин и современная биоэтика —
взаимопомощь как фактор эволюции. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры». Мiръ животных. Тематический выпуск , страницы 215-227
Скачать текст