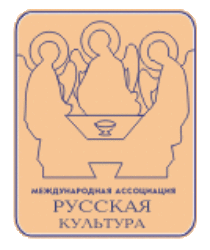Поделиться "Петар Боянич. Ностальгия, Pothopatridalgia, Меланхолия, Filopatridomania"
1,929 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Петар Боянич. Философ. Родился в 1964 году в Белграде. Изучал философию в Белградском университете и Высшей школе социальных наук (ЕНЕББ, Париж), где защитил диссертацию под научным руководством Жака Деррида. С 2009 года возглавляет Центр этики, права и прикладной философии в Белграде, с 2010 года — Институт философии и социальной теории. Преподаёт и сотрудничает с научными центрами в США, Великобритании, Италии, Германии, Хорватии. В область научных интересов входят политическая философия, философия права, феноменология.
Петар Боянич. Философ. Родился в 1964 году в Белграде. Изучал философию в Белградском университете и Высшей школе социальных наук (ЕНЕББ, Париж), где защитил диссертацию под научным руководством Жака Деррида. С 2009 года возглавляет Центр этики, права и прикладной философии в Белграде, с 2010 года — Институт философии и социальной теории. Преподаёт и сотрудничает с научными центрами в США, Великобритании, Италии, Германии, Хорватии. В область научных интересов входят политическая философия, философия права, феноменология.
НОСТАЛЬГИЯ, POTHOPATRIDALGIA, МЕЛАНХОЛИЯ, FILOPATRIDOMANIA
Если бы я сейчас говорил по-русски или по – английски, вы бы услышали, что моё произношение не совсем правильно, да и мой сербский неважен, в первую очередь потому, что последние пятнадцать лет я ничего не читал на этом языке. Последние несколько лет я пишу на сербском языке, потому что у меня увеличивается число зарубежных друзей, которые переводят «мой» сербский на другие языки. Их я всегда благодарю и публично, и частным образом за коррекцию моих текстов и моего произношения. Я плохо пишу как по-сербски, так и по-французски, на котором я написал диссертацию, или по-итальянски, который я изучал дольше всего. Можно продолжать в том же духе и говорить о своём неважном немецком, греческом или иврите — вы же должны понять, что всё это я говорю от имени тех (а их число постоянно увеличивается), кто находится в подобном положении, кто живёт, работает и перемещается между различными языками. Все эти языки — мои («мой русский», «мой английский», «моя латынь») и не мои; некоторые из них мертвы, но главное, я нигде не чувствую, что я «у себя» [chez moi — chez soi; sich heimlich fühlen]. Нигде я уже не чувствую себя дома [chez moi; zu Hause sein], и язык уже мне не родина (Heimat; местопребывание, родная сторона), и нету меня такого языка, по сравнению с которым все остальные языки были бы чужими. Можно было бы продолжать дальше и поведать вам, сколько у меня рабочих виз и различных паспортов (пять лет назад, во французской полиции, в ходе процедуры по получению французского подданства мне задали вопрос, готов ли я с оружием в руках защищать свою будущую родину); можно было бы с точностью назвать тот момент, в который мои дети начали говорить между собой на каких-то других (неродных) языках; сказать, где они сейчас находятся, а где их мать, моя жена, или наши родители; или попробовать перечислить, в каких точно местах находятся части моей библиотеки или на какие кладбища я хожу.
Прежде чем вместе с вами задаться вопросом, верно ли я описал портрет человека, уцелевшего на войне, не эмигрировавшего и не дезертировавшего, не бывшего добровольцем, но и не мобилизованного, хотелось бы указать на то, что подзаголовком к названию данного текста могло бы быть: «О выходе из войны как о вечном возвращении в войну». Моя задача — показать различные виды «парадокса» ностальгии, её воинственную натуру, и разъяснить связь этого слова со словом «фрикции», выделенным курсивом и находящимся во множественном числе (Клаузевиц «возводит» это слово в понятие и использует только в единственном числе; в немецком, так же, как и в русском, оно имеет женский род и означает трение). Ностальгия (mal du pays или «тоска по родине», как напоминает Владимир Янкелевич1) является дополнительным элементом, который приводит к трению, срывает военные действия, прекращает войну и приносит мир. И наоборот: возвращение домой является возвращением в новую войну. В историях возвращений ещё с Гомера, Вергилия и Данте подразумеваются определённые насильственные действия (Одиссей постоянно совершает убийства на обратной дороге), тогда как пребывание в родном краю, в провинции, легко нагнетает мечты о надёжности и безопасности, или поиски ещё одного защитника дома, а можно сказать, и поиски правителя и повелителя.
Пока я пытался представить портрет человека, будто бы навсегда покинувшего войну и страну, которая будто бы воевала (Сербия в качестве альтернативного государства или субъекта не была в течение последних «югославских» войн «на военном положении», никому не объявляла войны, никогда открыто не проводила мобилизацию своих военнообязанных и не капитулировала, а в то же время сербов убивали, сами сербы убивали, территория же Сербии сильно сокращалась, а население переселялось и теряло своё гражданство). Вы заметили, что в какой-то момент я пытаюсь предать свою идентичность и уклониться от собственного патетического тона (что я-де предал родину и родной дом, начав говорить от своего имени) и что пытаюсь говорить от имени тех, число которых постоянно растёт, и которые живут между рубежами и языками. Может быть, лишь в эту опасную и неизвестную минуту мне удаётся ускользнуть от режима ностальгии и войны, предчувствуя, что в самом деле существует язык между языками, — язык, на котором можно писать, и с которым можно преодолевать границы языков и государств. Вернее, речь идёт о языке, отменяющем чужестранность и чужестранцев, с одной стороны, и укоренившиеся понятия хозяина и собственности («чувствовать себя везде дома») — с другой.
Осмелюсь настаивать на том, что лишь в этом месте философия, её положение и целесообразность, могут быть сохранены по ту сторону дома или беженства (изгнания). В любом другом положении язык и другие («язык других») возвращают меня домой и принуждают к беспощадным протоколам возвращения: когда отвечаю и обращаюсь к вам в первом лице; когда отрицаю свою ностальгию; когда приношу свои извинения за невладение русским и за то, что я иностранец; когда Ксения, по имени иностранка, спрашивает меня: могу ли я говорить о Югославии, или для меня это слишком болезненно [trauma] («болезненно» означает, что югославские события я не смог «переварить» и «воспринять рационально», в отличие, к примеру, от событий в Ираке; вернее, что Югославия мне, конечно, более близка, но что моя речь не в состоянии «стереть» всё из памяти и навсегда «отдалить» меня от Югославии); когда в Белграде меня спрашивают, где я был во время бомбёжек города в 1999 году; когда в Сараево не выносят моего белградского произношения; когда узнают мой акцент в Париже либо в Риме, Лондоне, Москве… или когда кто-то в «мейле» спрашивает меня: «Где ты сейчас находишься?».
«Парадокс» ностальгии — говорю «парадокс», считая, что вокруг ностальгии всегда существует какая-нибудь насильственная стратегия (не это ли сущность всякого узла, загадки или парадоксии?) — с большой лёгкостью показывает Андрей Тарковский2. Вы помните, что в заглавии своего кинофильма Тарковский прибавляет букву «h» (Nostalghia), чтобы не дать итальянскому зрителю прочитать его «по-своему»; что в течение фильма постоянно слышен шум текущей воды (которая постоянно куда-то стекается, утекает или притекает); и что диалоги Андрея всегда на итальянском, а внутренние монологи на русском языке. С пятнадцатой до семнадцатой минуты фильма Андрей настаивает на том, что поэзию нельзя переводить так же, как и музыку, то есть что никто (в данном случае — итальянцы) ни черта не понимает в России. Когда его подруга пытается сгладить эти слова, замечая, что переводил русского поэта итальянский поэт, и что переводы необходимы для того, чтоб люди знакомились между собой, Андрей сперва язвительно замечает, что мы, «бедные» русские, вообще не в состоянии понять Данте, Петрарку и Макиавелли, а затем представляет свой максималистский рецепт для совместной жизни и совместного ознакомления: «Надо уничтожить границы [distruggere le frontiere]», «надо уничтожить границы государства [dello stato]». Сначала я думал, что следует опустить эти два предложения («границы» упоминаются во множественном числе, а «государство» в единственном; «уничтожение» — на удивление громкое слово), так как они произвольны и высказаны без какой-либо дополнительной мотивировки. Как увязать и удержать в одном месте рядом друг с другом две позиции — наличия во мне чего-то (например, чего-то «русского»), совсем особого и совсем непонятного для других, и наличия требования разрушить границы и государство? Если бы государство (в единственном числе) не существовало, был ли бы у нас один общий язык и исчезли ли бы тем самым личные воспоминания и ностальгия? Или, наоборот, тосковать по родине означает невозможность вернуться (к примеру, я убежал, и у меня нет документов, чтобы вернуться обратно)? И должен ли я уничтожать все встречные препятствия на обратной дороге? Решение путаницы в этом диалоге Тарковского можно найти в истории создания дискурса о ностальгии. Начиная с Иоганнеса Гофера и Руссо, и вплоть до Ясперса, Хайдеггера или Фрейда, намечается линия, в которой можно чётко выделить несколько моментов, определяющих облик ностальгии. Я их лишь перечислю:
а) Ностальгия (подобно аллергии, гомеопатии и т. д.) — это выдуманное греческое слово и громоздкая этимологическая конструкция (das Heimweh — это новое немецкое слово), которую в своей диссертации на латыни в конце XVII века сформировал Хофер, противопоставляя её также французскому словосочетанию Maladie du Pays.
б) Ностальгия — в первую очередь болезнь, затем чувство и, наконец, душевное состояние или настроение; изначально относится к родине и отчизне (Pothopatridalgia и Filopatridomania являются неологизмами Цвингера и Хофера), а вскоре начинает означать страстное желание возвратиться домой («Ich will heim» — «Хочу домой»), к родителям, близким, детству и т. д. Наконец, Фрейд говорит о пренатальной сепарации, факт, что женский половой орган [das weibliche Genitale] обладает чем-то Unheimliche
(зловещим) для «невротических людей», открывает вход в древнюю отчизну [alte Heimat], к которой стремится весь человеческий род. «Liebe ist Heimweh» («Любовь — это тоска по дому»)3.
в) Этим недугом болеют сперва швейцарцы, служащие (воюющие) во французской или какой-либо другой армии. Позже, вплоть до конца XIX века (диссертация Ясперса является последней крупной систематической попыткой исследования ностальгии относительно преступлений и насилия), показательными пациентами являются девочки, которых родители отдают в различные закрытые учебные заведения либо в чужие дома в качестве гувернанток и прислуги. Они же убивают детей, за которыми присматривают, поджигают дома, в которых служат, чтобы вернуться домой.
г) Музыка и разного рода патриотические арии способствуют масштабным эпидемиям ностальгии среди солдат, о чём свидетельствуют различные военные врачи и генералы. Руссо, когда пишет о ranz des vaches (пастушеской песне), упоминает недуг, ею вызываемый, который называется Hemvé. Некоторые князья и командующие приговаривали к смерти тех, кто поёт эти песни.
д) «Ностальгия является видом меланхолии, побуждаемым чувством неловкости в общении с не любящими нас чужими людьми». «Мне показалось, что я открыл, — пишет в 1777 году в Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers4Альбрехт фон Галлер, — что одна из причин ностальгии находится в политическом устройстве Швейцарии. Сюда приезжает мало чужеземцев, и почти никому не удаётся осесть, так как право на жительство [le droit d’y vivre] связано с месторождением и кровным происхождением. <…> Семьи из того же селения (в Альпах) сочетаются браком между собой почти без какого-либо участия чужой крови»5.
е) Единственное средство от этой болезни — возвращение на родину, домой. Различные случаи из ХѴІІІ-ХІХ веков показывают, что для улучшения настроения или выздоровления достаточна уже сама мысль о возвращении (или же отправлении в обратный путь).
ж) История ностальгии — это история «случаев», свидетельств, но и исповедей. В § 30 Антропологии И. Кант пишет, что один опытный генерал рассказывал ему о ностальгии у швейцарцев. Когда они через длительное время возвращаются в свои, обычно бедные края, то никогда не застают там того, что было во времена их молодости.
з) Ностальгия — просто вымысел (Nostalgie feinte [nostalgia simulata6], как называют её Мезере, или де Саваж в 1763 году, или, позднее, Ж. Старобинский) и исключительно признак наличия какого-то совсем другого заболевания. Ностальгия симулируется солдатами в целях уклонения от службы, а «заразительна» она оттого, что передается через язык (дискурс, дискуссия, слово).
Два последних момента, творящие великую историю этого образа, следует всегда мыслить вместе и всегда одновременно в тот момент, когда Андрей Тарковский произносит слова: «Никто меня (нас) не понимает» или «Надо разрушить границы». Существует что-то деланное и патетическое, что-то «фальшивое» в ностальгических протоколах. Но было бы всё-таки недостаточно ностальгию как силу воображения просто переместить в литературу или свести к пустой химере. Попытка Канта высвободить ностальгию из её пространственного измерения, экономически определить её и совсем отдалить от патрии (не только возвращение на родину приводит к смерти, но и patria иЫ bene (где хорошо, там и родина), — Кант таким образом противостоит идее XIX столетия о европейце, который жаждет золота, работает на другом континенте и ждёт не дождётся возвращения в родные края7) фатально деградирует у Хайдеггера, у его учеников и в разного рода влияниях, которые герменевтика оказала на новое прочтение древних текстов. Речь идёт не только о сведении Хайдеггером всего к ностальгии, об открытии скрытой ностальгии [verborgene Heimweh] или о повторяющемся строгом сочетании Heimweh с Heimat (с почвой, домом или корнями), но и о настаивании на важности «близости» и «особенности», а затем и об истовом повторении никогда не деконструированной гумбольдтовской идеи о неразлучности языка [Sprache] и родины [Heimat], Мне кажется, что знаменитая гумбольдтовская фраза из письма к Шарлотте в 1827 году «Die wahre Heimath ist eigentlich die Sprache» («Истинная родина есть подлинный язык») со всевозможными её версиями от Арендт до Деррида обрела бы своё достойное продолжение в речи Хайдеггера по поводу семисотлетия его родного города Месскирх: « Unsere Sprache nennt den Zug zur Heimat das Heimweh» («Наш язык называет тоской по родине стремление к родине»), В силе языка, в силе нашего языка называть словом «ностальгия» наше собственное стремление (нем. Zug — это рывок, резкий, сильный, внезапный рывок) к родине. Следует признать страсть, с которой Андрей одновременно исключает другие языки и защищает свой внутренний русский язык. Это та же сила, которая призывает разрушать границы.
Хотелось бы обосновать идею того, что это возвращение Хайдеггера (вместе с Гёльдерлином) в Альпы и Швейцарию всегда приводит к возвращению признаков родины, а затем и военной формы, то есть что ностальгия возобновляет отвращение и военную неопределённоетъ. Кроме того, мне кажется, что несколько главных оборотов хайдеггеровского дискурса о Heimat остаются в списке ностальгии и порождают или предполагают насилие. Иначе говоря, настаивание Хайдеггера или Андрея на непереводимости языка и на «частном языке», на диалекте и идиоме (значит, на родных краях) находится в созвучии с различными теориями о чужой «неповторимости», о теориях чужестранца у Лиотара, Левинаса или Делёза. Когда Делёз говорит, например, что ни один писатель не чувствует себя на своём языке дома, что каждый язык, включая даже родной, для него чужой, он парадоксально повторяет позицию и Хайдеггера и Андрея о том, что в нас существует что-то исключительно «наше» (непереводимое, неповторимое, неразделимое с другими, некоммуникабельное и непредставляемое). Быть чужим или быть другим подразумевает наличие родины (скажем, существование Израиля у Левинаса или наличие какой-нибудь собственной воображаемой территории вне государственных границ) — даже когда объявляется, что время дома уже прошло (Т. Адорно, 1944). Подобно тому как фраза «Никто меня (нас) не понимает» (которая включает фразу «Хочу домой») порождает различия и чужих людей, подобно тому, как незнакомец непременно создаёт вокруг себя незнакомых людей, и фраза «Надо уничтожить границы» (которая также может включать фразу «Хочу домой», то есть не хочу никаких препятствий на обратной дороге домой) предполагает, что мир должен быть большим домом, а мы всегда и везде дома. Философы или деятели науки (интеллигенция) — это может послужить в качестве заключения — должны превращать мир в дом, так как, по словам Новалиса, «философия — истинная ностальгия, жажда чувствовать себя везде дома» («Die Philosophie ist eigentlich Hiemweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein»).
Мне кажется, что философия как таковая могла бы в будущем освободиться от подобных чудовищных построений и снова найти своё место среди домов и на улицах, при условии, что она постоянно будет раскрывать и признавать свою выраженную и подразумеваемую ответственность за различные войны и насилие в ходе истории.
Итак, зачем мне понадобилось «трение» [Friktion] Клаузевица, чтобы описать способ воздействия ностальгии? Клаузевиц впервые упоминает слово Friktion в письме будущей жене (от 29 сентября 1806 года). Там он рассматривает проблемы в командовании Прусской армией, возникшие у одного из военачальников, Г Шарнхорста, которого же сам Клаузевиц выделяет как самого талантливого. Командующий оказался полностью парализован и недееспособен под влиянием постоянной «фрикции», обусловленной разноголосицей мнений, говорит Клаузевиц. Г. Шарнхорст не в силах противостоять «фрикции», «производимой» различными советчиками в штабе или в его кабинете, не может принимать решения, не может сдвинуть с места «военную машину». Данный пример предоставляет Клаузевицу возможность вообразить себе грандиозного полководца, побеждающего силой воли все встречные препятствия, всё трение разнообразных элементов (множества). Значит, всё то, что приостанавливает «продвижение» войны, все препятствия и проблемы, не позволяющие развиваться военным действиям, парадоксальным образом мешают военачальнику, прерывают войну, и тем самым, наверное, приносят мир. В главе седьмой «Трение на войне» — своей книги «О войне» — Клаузевиц пишет:
«Трение — это единственное понятие, которое в общем отличает действительную войну от войны бумажной [ was den wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unterscheidet]. Военная машина — армия и всё, что к ней относится, — в основе своей чрезвычайно проста, и потому кажется, что ею легко управлять. Но вспомним, что ни одна из её частей не сделана из целого куска; всё решительно составлено из отдельных индивидов, из которых каждый испытывает трение по всем направлениям»8.
Вопреки Клаузевицу, но и благодаря ему, — если хотим каким-нибудь способом прекратить войну или помешать ей, нам придётся, кажется, как можно более усложнить дело и постоянно подключать новые элементы в игру или на сцену. Надо также особое внимание уделить тому что Клаузевиц называет «бумажной войной». Ностальгия — одна из главнейших «фрикций», и она препятствует наступательной войне, временно отменяя её, открывая простор для обороны. Солдаты думают о родном доме, и можно представить себе, как они постепенно возвращаются на родину и расходятся по домам. Но существование собственного дома уже предполагает готовность защищать его — обеспечить дорогу домой, разрушая препятствия и границы на этом пути, защищать (вместе с другими) «принцип дома» от менее ностальгически настроенных нападающих и т. д. Существование собственного дома или «ностальгия на бумаге» предполагает и дом, который уже не дом, непрерываемые столкновения внутри него и невозможность воевать за него. Это причина того, почему словосочетание Клаузевица «бумажная война» парадоксальным образом, как призрак чистой войны и в то же время «фрикция», может вызвать и наладить мир. Я всё- таки не думаю, что возможно предотвратить войну, если она идеализируется, если постоянно возникают её конструкции и планы, или если о ней постоянно пишут. «Бумажная война» должна в первую очередь мысленно призывать воспоминание о том, что происхождение ностальгии — в меланхолии и в ничтожности интеллигенции (учёных) [mysery of schollers]9, и что существует нерасторжимая связь между ностальгическими солдатами и так называемыми знатоками, оправдывающими право на войну и убийства.
Петар Боянич. Ностальгия, Pothopatridalgia, Меланхолия, Filopatridomania.// «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 9, страницы 245-252
Скачать текст
Примечания
- Jankélévitch V. L’irréversible et la nostalgie. Paris: Flammarion, 1974. P. 276.
- «Я хотел рассказать о русской ностальгии — том особом и специфическом для нашей нации состоянии души, которое возникает у нас, русских, вдали от родины. <…> Я хотел рассказать о роковой привязанности русских к своим национальным корням, к своему прошлому, своей культуре, к родным местам, близким и друзьям». А. Тарковский. Запечатленное время. М., 1985.
- Freud S. Das Unheimliche und andere Texte. Paris: Gallimard, 2001. S. 112-113.
- Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел (фр.).
- См.: Ernst F. Vom Heimweh. Zürich: Fretz & Wasmuth Verlag, 1949. S. 116-117.
- Bunke S. Heimweh. Studien zur Kultur- und Literaturgeschichte einer tödlichen Krankheit. Freiburg, Berlin, Wien: Rombach Verlag, 2009. S. 116-117.
- Pinel P. «Encyclopédie Méthodique. Médicine» (1821 ), Nostalgia. Storia di un sen- timento, ur. Antonio Prete. Milano: Raffaello Cortina Editore, 1992. S. 70.
- Клаузевиц К. О войне. М., 1994. С. 106.
- Burton R. «Love of Learning, or Overmuch Study. With a Digression of the Misery of Schollers, and Why the Muses Are Melancholy», The Anathomy of Melancholy, 1621.