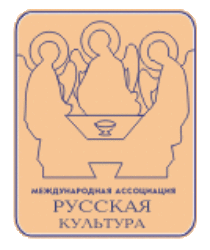Поделиться "Татьяна Ковалькова. Бюсси-ан-От, Шатне-Малабри: русское присутствие"
1,696 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Татьяна Ковалькова. Независимый журналист, переводчик. Специализируется в области культурной антропологии и литературного перевода. Автор и режиссёр социокультурных программ центрального телевидения (ВГТРК «Петербург», ТК «Культура») и периодических изданий с 1988 года.
Татьяна Ковалькова. Независимый журналист, переводчик. Специализируется в области культурной антропологии и литературного перевода. Автор и режиссёр социокультурных программ центрального телевидения (ВГТРК «Петербург», ТК «Культура») и периодических изданий с 1988 года.
БЮССИ-АН-ОТ, ШАТНЕ-МАЛАБРИ: РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Собрать русский мир в единое культурное пространство без анализа современного состояния русской эмиграции невозможно. Важно понять, что сохранилось там и в каком направлении преумножилось. В русском языке закрепилось устойчивое выражение: волны эмиграции. Оно характеризует стихийность этого явления. Каждая волна в своём движении сохраняет внутреннее состояние той жизни, из которой силами внешних обстоятельств была вытеснена в иные пространства. Первая русская эмиграция сохранила дух и стиль дореволюционной России. Этот стиль восприняли их дети и внуки, что в большинстве своём определило их мировоззрение и стереотип поведения, несмотря на всю привлекательность разностилья европейских стран, в которых они осели.
За последние двадцать лет появились целые библиотеки эмигрантской литературы и собрания книг о первой эмиграции. Тем не менее, в обществе чувствуется, что тема эта далеко не исчерпана. Более того, именно сейчас количество информации, достигнув критической точки, переходит в новое качество. Речь идёт уже не об аналитике. Накопленное знание повлияет на выбор культурного сообщества, которое в лучшей своей части принадлежит большему сообществу, все еще существующему в России, а именно, народу. А интуицию народа нельзя недооценивать, равно как и переоценивать влияния СМИ. Основной выбор всё равно будет сделан вне политической конъюнктуры момента, ибо народ не живёт одним днём, а неизменно глядит в будущее.
Какая же намечается у будущего связь с прошлым? Этот вопрос был одним из основных в период съёмки хроники, одна из частей которой приводится в качестве приложения к нынешнему номеру альманаха. Инициировала её философ Татьяна Михайловна Горичева, которая училась в Свято- Сергиевском Богословском институте в Париже и на протяжении многих лет поддерживала дружеские отношения с его преподавателями. Кроме того, оказалось, что наши герои связаны также и личной дружбой.
Оба родились в Париже: Борис Алексеевич Бобринский в 1925, Михаил Павлович Евдокимов в 1930 году.
Борис Алексеевич — сын графа Алексея Алексеевича Бобринского, (потомка Екатерины II). Михаил Павлович — сын философа Павла Николаевича Евдокимова.

Историчность имён как-то сразу мифологизирует их обладателей, а деяния их лишаются актуального человеческого выбора. Среда, в которой они воспитывались, была уникальной. Так случилось, что к 1925 году в Париже оказался ряд крупных русских мыслителей XX века. Собрать их, живших до революции в разных уголках необъятной России, в одном небольшом пространстве Свято-Сергиевского богословского Института — дело поистине промыслительное. В 2010 году отмечалось его 85-летие. К юбилею именно в России вышла книга под редакцией отца Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже», где с большой любовью рассказано о каждом участнике нового русского Возрождения. Удивительно то, что в парадигме русской культуры Возрождение ознаменовалось освобождением от догм атеизма. В статье о своём отце Павле Евдокимове о. Михаил пишет: «…он глубоко исследовал феноменологию атеизма, который довольно часто обоснованно отталкивает всякое умозрительное и нравоучительное размышление о Боге. Такого рода размышление, свойственное предшествующим векам, отяготило жизненно важное послание Церкви, скомпрометировало его в абстрактных умозрениях». И далее: «Развитие духовной жизни, первой стадией которого является смирение, — это непрестанная борьба, позволяющая человеку исследовать погружение во мрак глубины души своей: „тот, кто увидел грех свой, есть выше, чем тот, кто воскрешает мёртвых“ (Святой Исаак Сирин)».
Это высказывание может быть обобщающим для всего процесса собирания интеллектуальных и духовных сил во имя будущего России, того самого будущего, которое сегодня является нашим настоящим. Когда в 90-е годы наша Церковь выбрала вновь синодальный путь, т. е. путь государствоустроения, восьмидесятилетний опыт в тишине дерев высокого холма на северной окраине Парижа кажется спасительным жезлом, протянутым утопающим. Не стоит осуждать нашу Церковь за нынешний земной выбор. В русской истории есть случаи, когда Церковь выступала гарантом существования государства, а патриарх брал на себя миссию фактического главы государства в период великой смуты. Так было с патриархами Иовом и Гермогеном. Развернутая СМИ атака на православную церковь с 2009 года есть, по сути, борьба с русской государственностью. Однако невидимая брань гораздо сложнее, и происходит она внутри церковного сообщества. Евангельское предупреждение: «царство, разделившееся в себе — не устоит», сегодня звучит как последнее предупреждение. И здесь нам на помощь приходит духовный опыт, собранный под покровом Преподобного Сергия Радонежского. Хочется привести отрывок из речи отца Сергия Булгакова, который был бессменным деканом института, от начала строительства Сергиевского подворья в Париже в 1924 году:
«10 лет тому назад всякая речь о духовной академии была делом профессиональным, сословным, интересующим только духовенство и совершенно чуждым обществу. Теперь же мы обращаемся к русскому сознанию, к русской душе, к русской воле, а через них, через русское общество ко всей Европе. Ибо теперь создание православной русской академии является делом не только национальным, но имеет историческое, и даже всемирно-историческое значение. И вот почему так трепещет наше сердце при созерцании святого образа Преподобного Сергия — нашего духовного собирателя, вождя и стража, — в такую тяжкую годину рассеяния, когда на родине преступная рука старается разрушить его дело. Но сила его — живая сила, и на нас лежит обязанность продолжить его дело и первым долгом — спасать русский гений под той стеной, которая единственно способна его сохранить, под святыней Церкви — под стеной родного православия».
Епископ Кассиан (в миру Сергей Сергеевич Безобразов, сын сенатора С. В. Безобразова) считал, что Парижский Свято-Сергиевский Институт оказался продолжателем богословского вдохновения, данного Петроградским Богословским Институтом (создан священномученником митрополитом Вениамином после закрытия Петербургской Духовной Академии), а также Братством Святой Софии (создано А. В. Карташёвым в 1918 году). До самого момента высылки духовной элиты православной интеллигенции в 1922 году она была объединена деятельностью этого института и Братства.
В сообществе, которое живёт в стране «победившего православия», сколь мне известно, имя отца Сергия Булгакова упоминать неприлично (здесь приличия строго соблюдаются). Причина весомая — двойной приговор: Указ Московской Патриархии (РПЦ) от 1935 года и следующее за ним Определение Архиерейского Зарубежного Собора (РПЦЗ). В этих документах софиологическое учение о. С. Булгакова признано еретическим. С 1927 по 1936 год отцом Сергием было написаны три докладные записки, отвечающие на обвинения Карловацкого Синода и Московской Патриархии. Пытливые сами смогут разобраться в деталях спора о Софии. Но для тех, кто привык верить на слово, важно привести один факт. В ноябре 1937 года состоялось совещание епископов Православной Русской Церкви в Западной Европе (Константинопольского Патриархата), которое, отметив спорные стороны учения о. Сергия, решительно отвергла обвинения в ереси. Одновременно была создана Комиссия Богословского института. Весь профессорский состав не менее решительно встал на защиту обвиняемого коллеги. В принятом тогда Акте были сформулированы чрезвычайно актуальные и для сегодняшнего дня позиции:
«…Отнять у богослова право исследования равносильно признанию того, что в православии не существует никаких проблем <…> В этом сказывается неверие в живые творческие силы Церкви и неверие в Духа Святого, который пребывает в Церкви и возвещает вечные истины, ещё не закреплённые церковным сознанием <…> Мы отстаиваем свободу исследования в области богословских дисциплин, но ищем её не для себя, а для Церкви, и не вне Церкви, а внутри Церкви <…> Для всех нас, как и для о. Сергия Булгакова, желательна всякая критика наших богословских мнений, за исключением той, которая прибегает к аргументу ереси для того, чтобы насильственно удушить мысль, а не выяснить вопрос <…> Мы не только православные учёные, но верные сыны нашей Церкви. Мы в ней живём, в ней черпаем силы и дерзновенно верим, что ей служим нашей научной работой». Под этим Актом стоят подписи: А. Карташёв, иг. Кассиан, Г. Федотов, Б. Вышеславцев, В. Зеньковский, В. Ильин, В. Вейдле, Л. Зандер, Н. Афанасьев, П. Ковалевский, К. Мочульский, Г. Флоровский, Н. Лосский, Н. Бердяев и др.
Их книги, которые впервые официально появились в России в 90-е годы прошлого века, заново открыли нам историю и догматы нашей Церкви. В каждой из них дышала свобода и вдохновение, пульсировала энергия мысли. Это были собеседники, в размышлениях которых была высшая диалектика, далеко отстоящая от привитого нам дуализма материалистического сознания. Благодаря им мы открыли то, что о. Василий Зеньковский назвал «светлым космизмом православия».
О. Борис Бобринский отмечает в статье, посвященной о. Сергию Булгакову: «Нам бы хотелось, чтобы сама идея уважения личности и объективного суждения о богословских изысканиях оставалась одной из характеристик нашего Института и сегодня, и в будущем». В этой среде родились, воспитывались и реализовали свой талант герои нашего киноповествования. Жизнь отца Бориса связана со Свято-Сергиевским институтом, так как он рано почувствовал призвание к священству. Он стал его студентом в 19 лет и застал всех отцов-основателей, кроме отца Сергия Булгакова, который скончался в тот же год. Среди них был и Павел Николаевич Евдокимов. Окончив учёбу, стажировался на богословском факультете Афинского университета, и вновь вернулся к своим учителям, но уже в качестве коллеги, став вскоре приемником о. Сергия Булгакова на кафедре догматического богословия.
Впоследствии оказалось, что и духовный поиск они вели в одном направлении — тринитарного богословия. В одной из последних книг «Сострадание Отчее» о. Борис пытается дать ответ на вопрос о смысле страдания в мире.
Общественное служение тоже оказалось у них общим. Они являются вдохновенными свидетелями православия в экуменическом диалоге. После обоснования в Париже о. Сергий сопровождал митрополита Евлогия на международных конференциях в Европе и Америке, и его лекции и выступления приносили заметные плоды. Если учесть, что это двадцатилетнее служение пришлось на самые тяжелые предвоенные и военные годы, то можно представить, какого напряжения сил это потребовало. Тридцатитрехлетнее служение о. Бориса в Национальной Комиссии Диалога между православными и католиками и протестантами тоже пришлось на нелегкое время «холодной войны».

Оставив пост декана в 2006 году, о. Борис обосновался с женой Еленой Юрьевной в одном местечке в Бургундии, небольшом городке Бюсси. Именно в этом месте в год его поступления в Институт ещё московский друг о. Сергия Булгакова Екатерина Эдуардовна Мещерякова (преподававшая по его приглашению в институте английский язык) основала новый Покровский женский монастырь и вошла в историю нашей церкви как монахиня Евдокия. Сейчас о. Борис является духовником этой обители.
Близкое знакомство о. Бориса Бобринского с Михаилом Павловичем Евдокимовым произошло в конце 60-х годов в период их служения в крипте Свято-Александро-Невского собора, куда о. Борис был назначен настоятелем франкоязычной церковной общины, а Михаил Павлович, будучи преподавателем университета (сравнительного литературоведения), служил чтецом. К священническому служению о. Михаил пришёл через культуру в возрасте 50 лет. Вероятно, литературные приоритеты отца и его собственные сформировали особый путь духовного поиска — путь обретения Бога внутри человека. Не случайно темой докторской диссертации по философии Павла Евдокимова стала «Достоевский и проблема зла». В статье о своём отце Михаил Евдокимов пишет:
«В противоположность Западу, где проблема зла представлена со стороны разрушительного воздействия на нравственную целостность личности, в традиции русской мысли, зло часто рассматривается как обречённое на неудачу стремление к всеобщему братству, к пришествию царства правосудия на этом свете. Эта идея проиллюстрирована в знаменитой Легенде о Великом Инквизиторе. <…> Достоевский предвещал таким образом рождение утопий, вытекающих из марксизма. Тёмный круг пагубных сил выходит на сияющий свет божественной любви. Эта тема стала основой во всех последующих сочинениях Павла Евдокимова». А вслед за этой им была написана самая знаменитая, переведенная на более двадцати языков книга «Женщина и спасение мира» (на русском языке — издана в Белоруссии в 2004, переиздана в 2007).

В творчестве о. Михаила преобладает размышление над русской церковной традицией. Он словно хочет приобщить свою многонациональную паству именно к русской традиции и пишет книги для своих духовных чад. За тридцать три года священнической деятельности он основал несколько православных приходов: сначала в Пуатье, где он был параллельно профессором университета, а затем в южном пригороде Парижа, городке Шатне-Малабри, где служит по сей день. Ему неоднократно предлагали вернуться в Париж и служить в соборе Александра Невского, но он ни за что не оставит свою паству. Люди встречают в нём редкий пример, когда формально обращение к священнику — «отец», буквально соответствует имени. Он отец для каждого, кто таковым его считает. Этот редкий отеческий дар укоренён на глубочайшей любви и уважении к личности человека. Он, как и премного любимый им преподобный Серафим Саровский, в каждом восхищенно видит образ Божий, как бы ни был он замутнён самим человеком.
Беседа Татьяны Горичевой с отцом Михаилом снята в его доме в городке Со (Sceaux) — южный пригород Парижа. От его дома до православного храма Петра и Павла в Шатне-Малабри (который устроен в крипте католической церкви), где он служит — пятнадцать минут езды на машине. Беседа с отцом Борисом Бобринским снята в его доме в городке Бюсси-ан- От (Bussy-en-Othe) — в 160-ти километрах от Парижа — и предваряется небольшим повествованием о Покровском женском монастыре, который нам любезно показала благочинная этого монастыря мать Анна.
Татьяна Ковалькова. Бюсси-ан-От, Шатне-Малабри: русское присутствие. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 8, страницы 368-373
Скачать текст