Поделиться "Владимир Шали. Башни Нью-Йорка и тайные женские боги. С автором беседует Дмитрий Михалевский"
2,077 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Владимир Шали. Поэт-философ. Родился в Ленинграде в 1950 году. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Представитель Клуба русских писателей при Колумбийском университете. Автор философской концепции «Чёрно-белая идея для людей разделённых наций». В 1990 году в одной из самых популярных в России книжных серий «Библиотека поэта» вышел полный перевод Владимира Шали «Эпос народов Коми». Эта книга была выдвинута на соискание Государственной премии России. Автор сборников стихотворений «Свобода зренья», «Свобода исчезновения», романа в стихах «История одного молчания», романа «История разделённого сада», «Пространство предчувствия», «Бог Невозможного». Последние книги: «Цвет заблуждения. Поворот восковой черешни. Мумия винограда», «Пространство опоздания», «Тайные женские боги», «Архив огня».
Владимир Шали. Поэт-философ. Родился в Ленинграде в 1950 году. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Представитель Клуба русских писателей при Колумбийском университете. Автор философской концепции «Чёрно-белая идея для людей разделённых наций». В 1990 году в одной из самых популярных в России книжных серий «Библиотека поэта» вышел полный перевод Владимира Шали «Эпос народов Коми». Эта книга была выдвинута на соискание Государственной премии России. Автор сборников стихотворений «Свобода зренья», «Свобода исчезновения», романа в стихах «История одного молчания», романа «История разделённого сада», «Пространство предчувствия», «Бог Невозможного». Последние книги: «Цвет заблуждения. Поворот восковой черешни. Мумия винограда», «Пространство опоздания», «Тайные женские боги», «Архив огня».
БАШНИ НЬЮ-ЙОРКА И ТАЙНЫЕ ЖЕНСКИЕ БОГИ
С Владимиром Шали беседует Дмитрий Михалевский
— Владимир, мне очень приятно, что сегодня у нас есть возможность поговорить о твоём творчестве. Хорошо помню момент, когда впервые открыл твою книгу, потому что пережил настоящий шок. Я пытался найти параллели этому чувству и что-то схожее вспомнил – то была «Чайка Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Но тот литературный текст воздействовал на молодого человека. А твою книгу читал человек гораздо более зрелого возраста. Острота восприятия не то что притупилась, но жизненный опыт и опыт чувств уже надёжно защищали меня от масс-культуры, возносящей к вершинам мировой славы бойких поп-мудрецов наподобие Коэльо.
Я считаю, что твоя литература – явление совершенно уникальное во многих отношениях. В ней, с одной стороны, в традиции русской литературы глубинные погружения во внутренний мир; с другой стороны, исследования Египта сегодня – это что-то в духе глобализации: «И древний Египет тоже…»
Тем не менее то, что ты делаешь, находится в вопиющем противоречии с текущим моментом, ориентированным на сиюминутный результат. Твои книги – это сборники афоризмов, которые при желании вполне можно было бы выдать за древнюю мудрость.
Как могло случиться, что Древний Египет про – явился в современном россиянине с такой отчётливостью? Как человек пишущий, я никак не могу избавиться от недоумения: как такое удаётся?
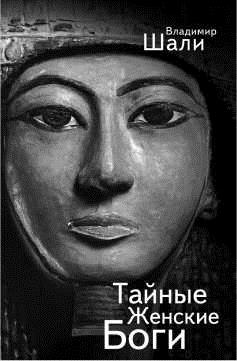
— Вот первая «египетская» история, с которой, наверное, всё началось. В нашем доме — доме моего деда — была маска. Чёрная такая маска. Все в семье, включая деда, думали, что это маска какого-то северного шамана. Надо сказать, что дед мой до 1938 года был председателем Союза журналистов и директором Дома печати. Его репрессировали, и он отсидел пятнадцать лет. Когда всё имущество деда забрали в НКВД, на стене осталась одна эта маска. Как-то я отнёс её в Музей изобразительных искусств в Москве, чтобы просто показать. Там её буквально выхватили у меня из рук и заставили оставить. Оказалось, что это надгробный лик саркофага, сделанный из чёрного кипариса, который принадлежал жрецу. Возраст оценили приблизительно в четыре с половиной тысячи лет… Вот оставил я маску в отделе Египта, там же родные ей другие маски, а мне потом сказали, что нельзя было отдавать. И с того момента действительн о произошли некоторые печальные события. С Египтом вообще шутить нельзя.
— С маской ты расстался до или после того как начал писать?
— После. Я к тому времени уже издал пару книг о Египте. Поэтому я в каком-то смысле оказался предателем, изменником своего дела. Эта маска в стилизованном виде воспроизведена на первых книгах — «Боги невозможного». Говорят, что она очень похожа на моё лицо. Этот снимок у меня есть.
— Становится понятно, что Египет — это твоя судьба. А когда ты впервые задумался о нём?
— Про Египет я начал думать с того момента, как мой покойный отец привёл меня в Эрмитаж. Там меня заинтересовала не мумия, а одна маленькая статуэтка. Сейчас её почему-то там нет. Меня потрясло, как в одном взгляде этой статуэтки были совмещены слёзы и радость. Слёзы и радость всего мира. Мира, который существовал до нас, который существует сейчас с нами и который будет существовать после нас. Мне вспомнилась мать, которую я потерял совсем недавно, полтора года тому назад.
Последняя фотография моей матери, конечно, ничего общего не имеет с этой статуэткой, но смысл был тот же — в этих слезах и радости. Такая вот связь. В моих книгах о Египте, безусловно, прочитываются современные вещи, но не потому что я его осовремениваю, а потому что, в принципе, ничего не меняется. Ничего не меняется, кроме оболочки. Всё остальное остаётся, как и прежде…
— Твой рассказ о статуэтке напомнил мне случай из моей жизни. Когда молодым стажёром-исследователем я пришёл в лабораторию художественной голографии Государственного оптического института, меня привлекли к работам по съёмке объектов выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона». Помнишь, такая приезжала к нам в Эрмитаж?
— Ещё бы! Той выставкой руководил господин Ахмед Фаттах, с которым мы дружили и которому я посвятил свою книгу.
— Та работа в Эрмитаже дала мне возможность несколько ночей просидеть перед золотой маской Тутанхамона. Один на один. Это невероятное воспоминание. Таких глаз, наполненных бездонной спокойной мудростью, устремлённых в бесконечность сквозь перипетии текущей жизни, сквозь себя, я больше никогда не видел. Как могли египтяне создавать такое? Как сейчас понимаю, тогда я пережил настоящий катарсис, что стало важным опытом на всю жизнь.
— Это такое везение! Упоминание о Египте привычно вызывает в нас сразу воспоминание о мумиях, а дело-то совсем не в них. По моей версии, мумии, которые выставлены в музеях, — это прах, а не мумии. Мумия, которая сто дней выдерживалась (в особо сложных случаях — до трёхсот дней), была ещё более живая, чем человек. Она должна была быть как произведение искусства, как греческая скульптура. Это не то, что мы обычно видим, напоминающее высушенную грушу. Мумия должна была быть божественно красива, и только тогда её принимали в Царство мёртвых. Если же она была нехороша, то она оставалась.
У правителей Среднего царства была мечта, чтобы ещё при жизни родиться так, чтобы не было ни печени, ни почек, ни сердца — ничего вообще: одно прозрачное пространство внутри, наполненное чистой родниковой водой, — и никаких болезней. Но в этом пространстве тела должна плавать мудрая змея. До сих пор не могу понять: почему эта змея должна плавать внутри?
— Потому что для древних змеи ассоциировались с водой. У греков сушу окружала река Океан, которая была гигантским змеем. Змея была символом подземного мира и носителем обитавшей в нём божественной мудрости.
— Рад, что ты делаешь свои книги о Греции. Они настолько созвучны с моими о Египте. Когда мне в издательстве «Алетейя» показали твою книгу, я был удивлён, как у людей одновременно возникают близкие идеи.
— А когда у тебя появился первый текст?
— Случилось это в восьмидесятом году. Текст «выскочил» совершенно неожиданно. Как это ни странно, но он остаётся моим любимым до сих пор. У меня написано около тридцати тысяч текстов. Вот этот текст, появившийся после смерти отца:
«Однажды спросил странник: „Учитель скажи, какова моя жизнь? Первую часть жизни я обирал бедных родителей, а вторую часть жизни я обирал бедных детей“.
Я ему ответил: „Эта жизнь состоит из двух частей, которые тебе не принадлежат“.
Тогда снова спросил странник: „Кому принадлежат эти две части?“
И я ответил: „Никому. Ибо у тебя не было ни отца, ни матери. Ибо тебя самого не было…“»
Это, наверное, ключевой текст всей этой истории. До сих пор я считаю его самым лучшим.
— Зная тебя, не могу поверить, чтобы ты потом просто сел и написал книгу и её сразу издали.
— Потом был Нью-Йорк. Я попал туда в 1990 году, и город ошарашил меня своей громадой. В 1990 году в Нью-Йорке и был задуман «египетский» литературный проект.
— Да, в начале 90-х Нью-Йорк для советского человека — это совершенно особый этап личной истории. Я сам оказался там год спустя. А как тебя туда занесло?
— Мне показалось, что я умираю. У меня сложилось впечатление, что меня спасёт Нью-Йорк. Я позвонил друзьям, что погибаю, друзья говорят — приезжай. Ну, я и приехал туда — на 96-ю улицу на Манхеттене. Нью-Йорк меня, действительно, спас, но только не от мнимых недугов, а от заблуждений. Ты знаешь, у демонов два голоса. Один — для других, второй — для себя. Один голос говорит: «Помогите мне, я так унижен, я так обездолен», —а другой говорит: «Уничтожьте меня побыстрее, потому что если вы не уничтожите меня, то я всё равно уничтожу вас». Вот так и Нью-Йорк. Ты знаешь, эти небоскрёбы.
— Ты в это время поэзию писал?
— Да. Впрочем, это уже не имеет значения. Важно, что я столкнулся с силой. Ты знаешь.
— Да. На неё наталкиваются все, кто приезжает в Нью-Йорк и поднимает голову. Англичанин Стинг сложил гимн этому чувству: «маленький эйлиан — иностранец в Нью-Йорке».
— Кругом каменные кубы, реальное воплощение мощи, силы. Наверное, только такой монолит, такой «архипелаг», как Солженицын, мог соревноваться с этими небоскребами. А остальным нашим поэтам это не по силам. Даже Бродскому, из-за которого я, собственно говоря, и приехал. Тогда я задумался, а что может быть более сильным? И вдруг почувствовал, ещё едва ощутимо, противостояние: с одной стороны — небоскрёбов, а с другой стороны — египетских пирамид. Неустойчивость небоскрёбов была очевидна. А нерушимость египетских пирамид не вызывала сомнений.
Это скорбное соперничество между Западом и Востоком внушало тревогу. Кто бы мог представить тогда, что всего через одиннадцать лет, 11 сентября настанет роковой день и произойдёт трагедия. И что интересно, тексты сочинённые мной в 1990 году, отразились в зеркале американской трагедии. Собственно говоря, это тема моей книги «Тайные женские боги», которая вышла в издательстве «Алетейя».
Сила «тайных женских богов» в том, что мужчины, по своему простодушию, назвали своих богов. «Мужские боги» — это у которых на плечах мужская голова, или голова зверя, или птицы. Есть женские боги — боги с женскими именами — но они как бы вторые. А настоящие женские боги не названы. Женщины поступили хитро. Оттого-то мужчины ничего не знают о женщинах, а женщины знают о мужчинах больше. Поэтому кто сильный, а кто слабый? Женщина или мужчина?
У меня есть такой диалог. Один говорит: «Сильный мужчина — слабая женщина». А я думаю — наоборот: «Сильная женщина, а слабый мужчина». Мужчина поэтому всегда спрашивает, а женщина иногда отвечает…
Я думаю, мужчина — это высокие узкие башни, устремлённые в небо. Башни, которые постоянно подтверждают своё происхождение из пропасти. Напротив, женщины — это устойчивые пирамиды, охватывающие своими мощными телами все стороны света. Башни не уверены в себе. Они — то стоят, то падают, подобно желаниям самих мужчин. Поэтому мужчинам и башням приходится доказывать своё положение в пространстве жизни. Напротив, женщины, как египетские пирамиды, сверхустойчивы и невозмутимы. Они вполне осознают своё вечное совершенство и превосходство.
Поэтому случись огромному дьявольскому камнепаду обрушиться на наш мир из Вселенной, башни рухнут, пирамиды — устоят. Их только слегка поцарапает небесная лавина. Поэтому, говорю, мужчина, будучи слабым, всегда спрашивает. Поэтому женщина, будучи сильной, иногда отвечает.
— Про Америку у меня есть много страшных историй. Но меня поразила информация, которую я узнал недавно в Греции. Мне рассказали, что после эмиграции греков из стран бывшего Советского Союза, и прежде всего из Грузии, в первые годы умерло около сорока процентов мужчин. Это греков в Греции! Женщины выжили практически все.
Однако, на мой взгляд, женщина сильна тем, что она охватывает не весь мир, а только ближнюю зону. Это – дом. Это – мир Египта. Сконцентрированные на ближнем, на текущих проблемах, женщины прагматичнее мужчин и потому, к слову, успешнее в малом бизнесе. Мужчина должен завоёвывать мир за пределами ближней зоны. В этих условиях женщины действительно сильнее мужчин. Америка даёт тому наиболее яркие примеры. Там мужчины терпят безусловное поражение в «войне полов», откуда, как мне кажется, большинство современных сексуальных проблем. Хотя победителей в этой войне вообще быть не может.
А в 90-х Америка, в которую мы верили как в «западного брата», многим открыла глаза на жизнь. Тебя на улицах Нью-Йорка «пробили» эти вертикальные «фаллосы» и выползли пирамиды египетские. Твоё «американское откровение» состоялось через образ женщины — это по Фрейду!
— Да. Будучи в Нью-Йорке, ты оказываешься оторван от своей любимой женщины. Ты о ней всё время думаешь, и, возможно, тут смешиваются и любовь, и ненависть, и восторг. Ты думаешь о любимой женщине, её представляешь — незыблемую, устойчивую, как пирамида, а себя — в одиночестве — этаким кренящимся небоскрёбом. Хотя, в действительности, это может быть ненависть к небоскрёбам, которые как бы разоблачают ситуацию.
— На чужбине, в одиночестве теряешь точку опоры, каковой для мужчины является женщина. А что было дальше?
— Тогда в Нью-Йорке я созвонился с Бродским. Спросил, была ли у него возможность прочитать какие-то мои стихи. И я ему сказал: «Иосиф Александрович, вот я здесь в Нью-Йорке впервые. Не знаю языка». А он мне говорит: «Ну и что ж такое „без языка“. Прочитайте книгу Короленко „Без языка“. Он был большой шутник». Он мне сказал: «Я вас встречу послезавтра на Мортон стрит». Я плохо знаю английский язык, но догадываюсь, а он мне говорит: «Мортон стрит — улица смерти». Так чуть- чуть поговорили о его родном доме, где он жил. Самое интересно, что мы не встретились. Я ему позвонил, как мы условились — через день, — и женщина сказала, что он улетел в Стокгольм. Тогда я написал ему письмо. Простое и откровенное: «Иосиф Александрович, дорогой, я Вас очень уважаю. Я посылаю Вам книгу. У Вас есть рукопись. Верните рукопись. Я понимаю, что книгу можно выбросить в помойное ведро, можно сжечь на костре, а рукопись беззащитна, единственна. Я посылаю Вам книгу. Делайте с ней что хотите…» Я допускаю, что хорошо, что мы не встретились. К своей поэзии я отношусь нормально, но после того как Египет пронзил мою душу, мне поэзия стала безразлична. Дима, когда по-настоящему прикоснёшься к истинному, то не нужно писать такие письма. Такие письма возникают, когда мы не уверены. А Иосиф Александрович был совершенно прав: какое ему дело — кто-то там приезжает, не надо обижаться!
— Как показывает опыт, обижаться никогда не надо. Я уже давно стал фаталистом: происходит то, что должно случиться. Мы только можем трудиться, чтобы быть готовыми и не пропустить очередной момент, который дарит судьба. А их много, этих моментов, просто мы чаще всего оказываемся не готовыми их заметить. И путь, чем труднее, тем более значим. Вот тебе достался Египет. Так писать ты начал в Америке?
— Нет, в Нью-Йорке я только начал размышлять на эту тему с моим другом Марком. Я жил у них какое-то время и работал в «Новом журнале» Кашкарова, который организовал Марк Алданов в своё время. Первый русский журнал в Америке. Работал я там, конечно, на подхвате, но и печатался в нём. Позже, когда я переехал жить в Кони Айленд, мы продолжали разговоры с Марком обо всём об этом: о небоскрёбах, о пирамидах. У него ортодоксальное мышление. Я уважал его мнение, но всё равно считал, что Египет — основа всего. Я даже говорил ему, что Египет — основа всех религий. Спорили на эту тему.
— Расскажи, о чём была первая книга.
— Первая книга называлась «История разделённого сада». Как «мужчина и женщина», как «чёрно-белая идея», которая меня захватила. Тогда я был связан с обществом «Метис». Они распространяли эту книгу, потому что тираж был большой — двадцать тысяч экземпляров. «Метис» — это когда дети от чёрно-белых родителей. Когда ребята из Африки, из Латинской Америки у нас живут и оставляют детей. И вот эти дети не знают, что им делать, — они не белые и не чёрные. У меня тогда возникла «чёрнобелая» идея смешанных национальностей: куда им деваться? И я написал тогда: если чёрные скажут: «Иди к нам — ты чёрный!» — не иди к ним. Если белые скажут: «Иди к нам — ты белый!» — не иди к ним — будь чёрнобелым, какой ты есть. Но у меня не загорелось. Либо не хватило способностей общественных, которых, собственно, никогда и не было. Это была тема, вопрос чёрно-белых детишек… Она до сих пор, на мой взгляд, остаётся неразвёрнутой, актуальной.
— Создание книги, подобной «Цвету заблуждения», «Богу невозможного», напоминает раскопки древних пирамид.
— Да, и для этого всегда нужно три участника. Это, во-первых, конечно, автор, во-вторых, тот, кто его направляет, кто даёт направление раскопкам. Для меня им стал господин Ахмед Фаттах, который был очень большим другом России. Третий участник этой «экспедиции» — Ян Николаевич Абубакиров.
— Как ты справляешься с Египтом? Мне с Грецией, наверное, проще, потому что я анализирую материалы, которые существуют. Впрочем, и в том и в другом случае нам доступны лишь последствия. Это как след элементарной частицы в пузырьковой камере. Увидеть её саму мы не можем, а можем увидеть только какие-то следы. Исходя из этих картин исследователи реконструируют процессы, которые имели место на самом деле.
— Это абсолютно верно. На реальность в Египте опираться чрезвычайно трудно. Более того, все французские переводы, например Баджа, очень сомнительны. С Грецией всё кажется нормально. Как опираться на то, чего нет? Вот в чём вопрос! Вот почему пришлось идти путём интуиции. Я говорил кое с кем из египтологов. Они мне объясняют: это так, это так. Я говорю: вы знаете, язык Египта можно понять во всех временах. И мне кажется, расшифровать эту тайну рациональным подходом невозможно. Можно каким-то особым путём. Хотя бы приблизиться. Мне так кажется.
Ты занимаешься Грецией и, естественно, Греция идёт тебе навстречу. А вот Египет… Ну какой Египет? Он давно уже в нас. Греция — это Греция. А Египет — это мы. Только с ним надо быть поосторожней. Египет — дело серьёзное, и тому есть примеры. Я в этом совершенно убеждён. Прикасаться к тайнам Египта можно и нужно, но надо быть осторожным.
— Расскажи, как у тебя начал складываться сюжет. Мне очень интересен момент начала. Как ты туда «заныриваешь»? Как появляется текст после того как «вначале надпись стёрта…»
— Конечно, надпись стёрта вначале. Это напоминает «Вначале было слово.» Но вначале, Дима, — не слово. Вначале — пустота. Вначале — хаос, как твои греческие боги говорят.
— Как появляется из этого хаоса ощущение? Как возникает эта подвижка? Ты интуитивист в чистом виде, тебе информация идёт совершенно по-другому, или ты уже давно вошёл в это состояние и в нём постоянно пребываешь?
— Конечно, вошёл. Я живу и умираю в этом. Помогают сны. У меня есть книжка, которая, наверное, скоро выйдет — «Черты Вселенной в её движении о самой себе или Смертельная прояснённость снов». Получается так, что сны беспощадней, чем жизнь. Сны более чётко дают нам какие-то данные, чем сама жизнь. Жизнь затуманивает, сны прояснены. Это удивительно, но они бывают беспощадно прояснены. Эта прояснённость выводит иногда на какие-то истины.
— Может быть, это не полностью сон, а состояние полусна?
— Да, полусон. Ты просто закрываешь глаза и воспринимаешь информацию интуитивно. Не ждёшь ничего, ничего не выдумываешь. Картинка возникает сама. Открывается дверь одна, другая, ещё какая-то, коридор, анфилада, зеркала, и вдруг — раз! — и возникает какая-то картинка.
— То есть у тебя визуальные образы?
— Совершенно верно. Визуальные образы. Потом это переходит в состояние сна. То есть вначале идёт подготовка, цветные картинки, которые ты не воображаешь, а они сами приходят, а потом они постепенно переходят в какой-то сюжет. Но не надо никогда ничего ждать. Оно само приходит.
— То, что ты рассказываешь, напоминает трансперсональные путешествия древних мистических ритуалов. Это ритуалы-мистерии. Из Египта они пришли в Грецию, как о том писал Геродот. В ходе этих мистерий греческие мудрецы получали свои знания. На тот момент у них мыслительные механизмы не были развиты настолько, чтобы додуматься до такого самостоятельно. Парменид описывает путешествие к богине за мудростью на четвёрке коней. Потом, когда уровень развития человека повышается, элевсинские мистерии не могут более удовлетворить требований времени. Из мистерий вырастает театр. Египет, вероятно, обладал такой чрезвычайно мощной мистической культурой, которая дала мистерии. Во времена истории Египта человек ещё не был готов к развитию. Вот Греции повезло в определённом отношении. Её расцвет пришёлся на исторический момент, когда человек исторически состоялся как личность. Сознание становится всё более рациональным. Механизмы мышления изменяются.
— Интересно, что Китай стоял от этого в стороне. Все как-то общались, сражались, любили, ненавидели. Это как у мужчины и женщины. То живут, любят друг друга, то вдруг что-то взорвётся, так возненавидят друг друга, что не дай Бог, а другие стоят в стороне. Живут своей жизнью. Отдельно.
Сейчас выходят две книги: «Тайные женские боги» и «Восточная тревога». Их смысл довольно прост: семь-восемь тысяч лет назад (некоторые говорят — шесть тысяч лет назад), существовало два царства — Египет и Китай. Египет был открытым царством, Китай — закрытым царством. И вот что мы имеем на сегодня. Китай есть — в этой стене своей, но его нет в нашем сознании. Он как бы закрыт. Мы его не знаем. Египта нет, но он есть в нас, потому что он трансформировался в твою Грецию, Западную Европу, в нас. Египта нет, но он есть. И вот сейчас происходит противостояние не небоскрёбов и пирамид, а более серьёзное противостояние. Оно начинается, зарождается между Египтом, который трансформировался в то, что мы называем западным миром, и Китаем.
Есть у меня такой образ. Великая китайская стена как змея, которая вдруг оживает. Оживает, каменные её складки превращаются в чешую змеи, она распрямляется и начинает свой путь. Она ползёт по Шёлковому Великому пути. У границ Египта змея трансформируется в дракона — у неё вырастают крылья — она перелетает через границу — невидимую духовную границу Египта. Летит этот дракон и разбивается — заметь, о самый толстый угол в мире — об угол пирамиды Хеопса. Вот так.
ОТСТРАНЕНИЕ ТУТАНХАМОНА
Я не вёл за собой ни мужчин, ни женщин, ни рыб.
Не сдвигал островов, не сбрасывал каменных глыб.
Я не верил в бога с человеческим именем «Бог».
И я видел так много, что сказать об этом не смог.
Я не ведал золота, власти, войны и любви.
Без меня уплывали в заморскую даль корабли.
Без меня убивали героев и ставили крест.
Без меня разрывали одежду на теле невест.
Я не лучше убийцы и других подобных имен.
Я хотел с ними слиться, но был отстранён
И спасён…
Владимир Шали. Башни Нью-Йорка и тайные женские боги. С автором беседует Дмитрий Михалевский. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 5, страницы 370-378


