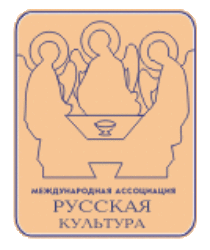Поделиться "Арина Кузнецова. Даниил Андреев и животные: путь к «облагороженному образу»"
2,104 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Арина Кузнецова (род. в 1965 г. в Ленинграде) — филолог, переводчик, фотохудожник. Переводит современную французскую литературу (в частности, поэзию и прозу Филиппа Жакоте: Пейзаж с пропавшими фигурами. СПб., 2005; Прогулка под деревьями. М„ 2007) и философию (Филипп Сере, Оливье Клеман). С 2006 г. занимается фотографией (выставлялась во Франции и в России). В 2012 г. разработала выставочное пространство «Достоевский: икона и картина» (Римини, Италия). В 2014 г. совместно с египтологом А. Кролом издала труд «Фотографическая память» по истории фотографии в XIX в.
Арина Кузнецова (род. в 1965 г. в Ленинграде) — филолог, переводчик, фотохудожник. Переводит современную французскую литературу (в частности, поэзию и прозу Филиппа Жакоте: Пейзаж с пропавшими фигурами. СПб., 2005; Прогулка под деревьями. М„ 2007) и философию (Филипп Сере, Оливье Клеман). С 2006 г. занимается фотографией (выставлялась во Франции и в России). В 2012 г. разработала выставочное пространство «Достоевский: икона и картина» (Римини, Италия). В 2014 г. совместно с египтологом А. Кролом издала труд «Фотографическая память» по истории фотографии в XIX в.
Даниил Андреев и животные: путь к «облагороженному образу»
В русской литературе и философии книга Даниила Андреева «Роза Мира» стоит особняком, что не раз отмечалось и его почитателями, и критиками. Это своё отдельное место в русской культуре книга занимает несомненно и прочно1. Мы были лишены этого уникального труда более тридцати лет (со дня окончания работы над книгой в 1958 году и до её официальной публикации в 1991-м). За прошедшие двадцать четыре года Андреева многократно издавали и переиздавали, вышло полное собрание сочинений, подробная биография, аналитический сборник в серии «Pro et contra», защищено несколько диссертаций, проводятся конференции по его творчеству, в Брянском заповеднике в 2014 году открылся маленький музей2. Параллельно (иногда и пересекаясь с исследовательской деятельностью) трактат Андреева активно осваивается людьми с эзотерическими взглядами, что неизбежно ввиду мистической составляющей его творчества. Но, учитывая грандиозность и сложность вселенной Андреева и её поэтическую глубину, можно сказать, что большая часть этих работ пока скользит по поверхности, к тому же есть аспекты, пока ещё мало затронутые исследователями. На один из них хочется обратить особое внимание, поскольку он непосредственно связан с тематикой животного.
У меня, как и у многих любителей поэзии, отношение к Даниилу Андрееву глубоко личное. Это автор, с которым встречаешься однажды, а потом ведёшь постоянный разговор. Хорошо помню, как впервые узнала и о самом Андрееве, и о его отношении к животным. Это было в 1987 или 1988 году на 5-й Красноармейской улице, в гостях у Елены Шварц3. Она тогда дочитывала «Розу Мира», переданную ей знакомым поэтом. Тот получил фотокопию загадочным образом (насколько я помню, в передаче Елены Андреевны): на Невском остановилась машина с затемнёнными стеклами, из окна ему под ноги вдруг выбросили коробку, машина уехала. В Москве самиздатские копии книги ходили с середины семидесятых. Странно, что Шварц, активная участница жизни второй культуры, узнала этот текст так поздно. Так или иначе, но в тот момент она была поражена и увлечена головокружительными мирами «Розы Мира» (пересечения поэтических идей Шварц и Андреева ждут своего исследователя!), но, как мне кажется, в наибольшей степени на неё произвела впечатление глава, связанная с животными — ведь тема «страдающей твари» всегда волновала её и в творческом, и в общечеловеческом смыслах. Она держала на руках свою кошку, угощая её сыром и приговаривая: «Мурка, начинаю тебя воспитывать! Отныне ты будешь вегетарианкой. Вставай на задние лапы. И каждый день мы будем выучивать новое слово… Ты у меня начнёшь говорить!» Мурка хмурилась и отворачивалась. А Елена Шварц пересказывала всё новые причудливые фрагменты из «Розы Мира», полные загадочных слов и надмирных видений, неизбежно возвращаясь к идеям, связанным с воспитанием животных. Так я впервые услышала о «зоогике», это было удивительно и притягательно; было очевидно, что речь идёт не о дрессировке ради развлечения, а о каком-то мудром духовном общении с животными, направленным на взаимное просветление, на создание человека и животного «возвышенного образа». Конечно, в этом не было абсолютной новизны: подобные отношения между святыми отшельниками и животными (в том числе хищными), где звери выступали добровольными и сознательными соработниками монахов, издревле описывались в житиях. Андреев не мог не думать о Франциске Ассизском или о дружбе с медведем св. Серафима Саровского (потом я узнала, что маленькая иконка преподобного всегда была при нём, — ив странствиях по русским просторам, и даже в тюрьмах и больницах). Это было первое, что приходило в голов)? 4. Вскоре я тоже заполучила экземпляр «Розы Мира». Глава о животных («Отношение к животному царству») нашлась в пятой книге («Структура Шаданакара. Стихиали»), где она, как мне показалось, была несколько затеряна в лабиринтах демонических и светлых миров с их удивительными названиями. Изучению понятий «Розы Мира», их философскому смыслу и богословскому анализу посвящено немало работ, и сейчас я не буду останавливаться на этом, хотя мировоззрение Андреева целостное, и было бы неверным вырывать отдельные идеи из общего контекста. Невозможно осуждать (как это делает А. Кураев5) и словотворчество поэта. Верно заметил А. Бойко в статье о последних книгах Юрия Мамлеева, что некоторые слова-образы, передающие мистический опыт Андреева, вошли в наше сознание, ибо были извлечены из копилки нашего языкового подсознательного: «Автор данных строк, например, неоднократно уличал себя в том, что думает об уицраорах из династии Жрургов как о реальных существах. Будучи закоренелым скептиком. Много лет не заглядывая в „Розу мира“»ь. Именно потому, что комплекс идей Андреева так сложен и разнообразен, что так важны его суждения и пророчества об истории и метаистории России и мира, необходимо выделить страницы, посвящённые животному царству, перечитать их заново, непосредственно и прямо задуматься над ними.
Текст «Розы Мира» позволяет сделать это. Поразительно то, что именно в этой главе язык Андреева становится удивительно конкретным, его мысль переходит из причудливых вселенных в практический план настоящего и близкого будущего. Андреев показывает, что «реализм в высшем смысле» (или, как он выражался, «сквозящий реализм») непосредственно связан с состоянием человека «здесь и сейчас». Отрешённый мистик и странник превращается в геополитика, учёного-аналитика, активного деятеля и практика сегодняшнего дня — очень здравого, рассуждающего взвешенно и последовательно, думающего о завтрашнем дне. И всё это происходит на основе самых простых, основополагающих вещей — на любви, жалости, сострадания к твари, на стремлении защитить планету от утилитарного использования, грозящего гибелью всему живому.
Однако в мыслях Андреева о животных есть моменты, с которыми трудно согласиться с богословской, православной точки зрения, и их стоит прокомментировать. На это обратила внимание Татьяна Горичева, внимательный читатель его поэзии и прозы (никогда не забуду, как прекрасно декламировала она вслух, для меня впервые, гениальный «Ленинградский Апокалипсис»; это было в начале девяностых, в Стрельне, где мы навещали её больных родителей, прошедших когда-то, как и автор поэмы, многие этапы этого апокалипсиса). В своём письме от 29 апреля 2015 года (когда мы обсуждали эту публикацию) Горичева написала: «Даниила Андреева я люблю особой, нежной любовью ( Вы знаете ). Только у меня есть с ним не – согласия. В частности, когда он пишет, что волк (коллективная душа) однажды выбрал насилие и демонизировался. То же и про тигров, про насекомых. Для меня (как для православной) „тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её“ (Рим. 8, 20). Они стали „злыми“ и „греховными“ по воле покорившего их человека. Первородный грех совершили лишь люди». В самом деле, здесь у Даниила Андреева допущена неточность. Ведь он именно подчёркивает, что волк «выбрал зло»: «Волк, обороняющийся против собак и загрызающий одну из них в борьбе, не виновен лично, но виновен как представитель хищного вида, предки которого сделали 6 выбор в этом направлении…» 7. Во Владимирском централе, где писались эти страницы, у Андреева не было возможности перечитать Евангелие, кроме того, вряд ли имеющийся у нас текст «Розы Мира» — по-настоящему завершённое произведение. Хотя у Андреева после выхода из тюрьмы ещё оставалось два года жизни, и он успел в целом дописать книгу, но он был очень слаб и болен, работа давалась ему с огромным трудом, к тому же они с женой постоянно переезжали от одних знакомых к другим, а ведь ещё нужно было заниматься посторонней работой — переводами для выживания. Впрочем, и сам Андреев оговаривается, что его теоретические разработки далеко не полны: «Я имею возможность едва наметить путь к решению проблем, связанных с трансфизикой и эсхатологией животного царства»8. Он только наметил путь, наша задача состоит в том, чтобы уточнять и развивать намеченное.
В целом, конечно, с догматической точки зрения Андреева есть в чём упрекнуть. Он был человеком с фантазией, распространявшейся в том числе и на области богословия, богостроительства. Испытания-искушения приходили к нему не только от безбожной власти, которая его преследовала, но из глубины собственного сердца… Чего стоит его глухая исповедь о молодых годах, времени утраты «оси бытия», когда он в течение нескольких месяцев шёл к своей духовной гибели, встав на путь «служения Злу»! Рассказу об этом периоде посвящён стихотворный цикл «Вехи спуска» (1926-1950); из него ясно, что даже это рассчитанное падение для юноши Андреева было «возвышенным и благородным», имело истоком романтический бунт — «Демона» Врубеля, морок Блока, блуждания Есенина…
Все святыни отдам за мгновенья
Бросить вызов законам Отца,
Бестелесный клинок преступленья
В ткани духа вонзив до конца9.
Такие слова не проходят даром. На пути саморазрушения юноша задумал несколько необратимых поступков: венчание в церкви с нелюбимой женщиной, убийства — сначала животного, затем человека… Именно в главе о животных Андреев совершает акт публичного покаяния, признаваясь в первом из задуманных убийств, — очевидно, речь шла о собаке. Пойдя против своей светлой любящей природы, он мгновенно осознал кошмар содеянного: «…переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло моё отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому. И если бы на моей совести не было этого постыдного пятна, я, может быть, не испытывал бы теперь ко всякому мучению или убийству животного такого омерзения, иногда до полной потери самообладания» 10.
Действительно, многие люди, знавшие Андреева, отмечают его особые отношения с животным миром. История с подкармливанием жеребёнка хлебом во время службы на ленинградском фронте едва не закончилась расстрелом, после чего поэт был переведён в команду погребения при Отделе тыла11. Попытка спасения бабочки в тюремной камере во Владимире (для этого ему пришлось приблизиться к запретной форточке) привела к трёхдневному неподвижному сидению в сыром карцере и стала местной легендой… Животные в ответ тоже к нему тянулись: «И посколькуон очень любил кошек, — вспоминал знакомый писателя Алексей Смирнов — наши кошки всей стаей собирались к Андрееву во флигель и постоянно сидели у него на спине, когда он писал, и спали на нём…» 12. Животные возникают и в стихах Даниила Андреева, одно из самых трогательных и одновременно глубоких — о встрече с телёнком (из книги «Босиком»), Его хочется привести целиком.
Тихо, тихо плыло солнышко.
Я вздремнул на мураве…
А поблизости, у колышка,
На потоптанной траве
Пасся глупенький телёночек:
Несмышлёныш и милёночек,
А уже привязан здесь…
Длинноногий, рыжий весь.
Он доверчиво поглядывал,
Звал, просил и клянчил: му!
Чем-то (чем — я не угадывал)
Я понравился ему.
Так манит ребят пирожное…
И погладил осторожно я
Раз, другой и третий раз
Шёрстку нежную у глаз.
Ах, глаза! Какие яхонты
Могут слать подобный свет.
Исходил бы все края хоть ты,
А таких каменьев нет.
Как звезда за тёмной чащею,
В них светилась настоящая
(Друг мой, верь, не прекословь)
Возникавшая любовь.
И, присев в траву на корточки,
Я почувствовал тотчас
Тыканье шершавой мордочки
То у шеи, то у глаз.
Если же я медлил с ласками,
Он, как мягкими салазками,
Гладил руки, пальцы ног,
Точно мой родной сынок.
Я не знаю: псы ли, кони ли
Понимают так людей,
Только мы друг друга поняли
Без грамматик, без затей.
И когда в дорогу дальнюю
Уходил я, мне в догон
Слал мумуканье печальное,
Точно всхлипыванье, он.
Поэт не стесняется своего умиления, а использование уменьшительных суффиксов даже намеренно, потому что в этих строфах есть нечто, выводящее за пределы «слишком человеческой» сентиментальности. Стихотворение озаглавлено «Ватсалья» и в черновиках сопровождается следующей выпиской-комментарием автора: «Насколько глубоко не только в поэзии, но и в сознании индийцев жива идея о нежности и чистой любви коровы к телёнку, свидетельствует тот факт, что для обозначения наиболее совершенной любви употребляется термин „ватсалья“, производный от слова „ватса“ (телёнок). Буквальное значение слова „ватсалья“ — те- лячесгво (Академик Баранников. „Изобразительные средства индийской поэзии“). А у нас только с грубой насмешкой: „телячьи нежности“. Печально»13. Ещё можно обратить внимание и на дату написания, 1955 год: в это время поэт уже семь лет находился в тюремной камере, и за это время он, всем своим существом любивший многодневные босые прогулки по лесам и полям, ни разу не видел дерева14.
Религии и философии Индии оказали особое влияние на мировоззрение Даниила Андреева. Эта тема слишком важна, чтобы затрагивать её поверхностно, стоит сказать лишь, что с детских лет и до самого конца поэт чувствовал глубочайшую духовную связь с этой страной, грезил и тосковал о ней как ни о какой другой… В последние тюремные годы он со всей страстью души учил хинди, имея в своём распоряжении один лишь словарь15.
Индия! Таинственное имя,
Древнее, как путь мой по вселенной!
Радуга тоскующего сердца,
Образы, упорные, как память…
Своё отношение к живому (а для Андреева весь мир был живым, даже городской асфальт для него хранил память миллионов ходивших по нему людей) он основывал на принципе «ахимса» (ненасилие) и, подобно Ганди16, считал, что ненанесение вреда животному и человеку вполне может стать фундаментом для любого жизнестроительства, в том числе и политического. А реки брянского края, вдоль которых он так любил гулять, были для него так же священны, как Ганг для жителей Бенареса. Безусловно, что сложные, разветвляющиеся, но не вытесняющие друг друга религии Индии во многом определили саму идею и духовную структуру «Розы Мира».
Есть в главе о животных и ещё одна «еретическая» с точки зрения ортодоксального богословия мысль, — о конечном спасении и восстановлении не только душ животных, но детских игрушек в форме животных: «Ещё более странным покажется то, что касается не живых зверей, а некоторых детских игрушек. Я имею в виду всем известных плюшевых мишек, зайцев и тому подобные безделушки. В детстве их любил каждый из нас, и каждый испытывал тоску и боль, когда начинал понимать, что это — не живые существа, а просто человеческие изделия. Но радость в том, что правее не мы, а дети, свято верящие в живую природу своих игрушек и даже в то, что они могут говорить. Нашим высшим разумом мы могли бы в этих случаях наблюдать совершенно особый процесс творения…» 17. В результате участия в этом «особом процессе творения» бывшие игрушки обретают «души» и в итоге в раю высших животных «появляется изумительное существо, для которого именно здесь должны быть созданы такие же облачения…»18. Ещё лучше эта мысль выражена у Андреева в стихотворении «Мишка», одном из самых трогательных в русской поэзии:
Его любил я и качал,
Я утешал его в печали;
Он был весь белый и урчал,
Когда его на спинку клали.
На коврике он долгим днём
Сидел, притворно неподвижен,
Следя пушинки за окном
И крыши оснежённых хижин.
Читался в бусинках испуг
И лёгкое недоуменье,
Как если б он очнулся вдруг
В чужом, неведомом селеньи.
А чуть я выйду — и уж вот
Он с чуткой хитрецою зверя
То свежесть через фортку пьёт,
То выглянет тишком из двери.
Когда же сетки с двух сторон
Нас оградят в постельке белой,
Он, прикорнув ко мне сквозь сон,
Вдруг тихо вздрогнет тёплым телом.
Арина Кузнецова. Даниил Андреев и животные: путь к «облагороженному образу». // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры». Мiръ животных. Тематический выпуск , страницы 338-346
Скачать текст
Примечания
- Как утверждают специалисты по творчеству Андреева, тираж «Розы Мира» в разных изданиях со времени её первой публикации превысил 2 млн. экземпляров. Однако за пределами России книга известна пока очень мало.
- Д. Андреев. Собрание сочинений в трёх томах. М., 1993-2006 (далее — СС.); Даниил Андреев в культуре XX века. Сборник статей. М., 2000; Даниил Андреев: pro et contra: личность и творчество Д. Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. СПб., 2010; и мн. др.
- Елена Андреевна Шварц (1948-2010) — русский поэт-мистик, автор многих стихотворных книг («Танцующий Давид», «Труды и дни монахини Аавинии» и др.), один из самых ярких представителей культуры андеграунда XX в.
- Но в народном сознании жили и другие, менее известные апокрифические примеры «зоогики»: скажем, одна из версий «Чуда Георгия о змие», в которой святой Георгий не пронзает змея (и не режет его на порционные куски, как в скульптуре Церетели на Поклонной горе в Москве), а обращается с «врагом» так:
Ах ты, змея лютая,
Змея лютая, да свирепая!
Ну-ка стань, змея, умнасмирна,
Стань умна-смирна, как скотинина!
И случилось тут чудо чудесное.
Змеюка голову свою склонила,
Всё зло позабыла.
И повели эту змею во Москву-матушку
Добрым людям на удивление,
Ребятишкам на забаву.
С тех пор любят Егория Храброго
И песни о нём поют. - А. Кураев. Как относиться к «Розе Мира»? // Даниил Андреев: pro et contra. C. 353-357.
- Великий утешитель. Юрий Мамлеев о России Вечной и Увечной. «НГ Ex libris», Xе 47 от 16 декабря 2010 г.
- Д. Андреев. СС. Т. 2. С. 421.
- Д. Андреев. СС. Т. 2. С. 426.
- Д. Андреев. СС. Т. 3. Кн. 1. С. 454.
- Д. Андреев. СС. Т. 2. С. 425.
- Б. Романов. Даниил Андреев. М., 2013. С. 287, 288.
- А. Смирнов. Вокруг Розы Мира / Д. Андреев. СС. Т. 3. С. 100.
- Д. Андреев. СС. Т. 3. С. 459.
- Когда в 1957 году, накануне освобождения, Андреев был переведён для экспертизы в Институт Сербского, с ним подружился Родион Гудзенко, который так вспоминал об их первой встрече: «…весь насквозь тонкий, звонкий и прозрачный. Интеллигентный, беззубый, высокий, седой, тощий. Босой. Босиком, хотя всем тапочки давали. В кальсончиках, в халатике. И — в слезах, заплаканный! Улыбается, стесняется, слёзы. „Что такое? Почему вы плакали?“ — „Ой, простите, — он сказал. — Вы знаете, я в первый раз за десять лет увидел дерево!“ — „Как — дерева не видели?“ — „Я в тюрьме был, во Владимирской, там прогулки в крытом дворике, цемент, я деревьев не видел вообще. И тут я вдруг увидел во дворе, когда меня провели, живое, настоящее дерево, и, знаете, просто потекли слёзы“». P. С. Гудзенко. Слово о Данииле Андрееве // Д. Андреев. СС. Т. 3. С. 459.
- Хотя в библиотеке Владимирского централа не было собственно религиозной или богословской литературы, иногда там странным образом обнаруживались редкие и даже запрещённые на воле издания.
- Ещё в 1920-е годы Андреев внимательно читал биографию Ганди, написанную «другом революции» Роменом Ролланом.
- Д. Андреев. СС. Т. 3. С. 190.
- Д. Андреев. СС. Т. 3. С. 191.