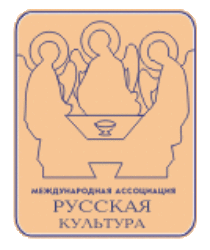Поделиться "Александр Перцев. Русский пейзаж в свете всемирной философии"
1,891 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Александр Перцев. Философ, переводчик. Родился в 1954 году в г. Нижнем Тагиле. В 1976 году закончил философский факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. С 1993 года — декан философского факультета УрГУ (ныне — УрФУ). Зав. кафедрой истории философии и философии образования, профессор, доктор философских наук. Автор 9 монографий,среди которых «Фридрих Ницше у себя дома», «Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии», «Почему Европа не Россия», «Душа в дебрях технологий», «Сова Минервы над муравейником», «Жизненная стратегия толерантности: проблема становления в России и на Западе». Переводчик книг П. Слотердайка, Ф. Ницше, К. Ясперса, Ф. Г. Юнгера. Член Союза журналистов России. Радио- и телеведущий.
Александр Перцев. Философ, переводчик. Родился в 1954 году в г. Нижнем Тагиле. В 1976 году закончил философский факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. С 1993 года — декан философского факультета УрГУ (ныне — УрФУ). Зав. кафедрой истории философии и философии образования, профессор, доктор философских наук. Автор 9 монографий,среди которых «Фридрих Ницше у себя дома», «Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии», «Почему Европа не Россия», «Душа в дебрях технологий», «Сова Минервы над муравейником», «Жизненная стратегия толерантности: проблема становления в России и на Западе». Переводчик книг П. Слотердайка, Ф. Ницше, К. Ясперса, Ф. Г. Юнгера. Член Союза журналистов России. Радио- и телеведущий.
РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ В СВЕТЕ ВСЕМИРНОЙ ФИЛОСОФИИ
Сад Уральского университета расположен у станции Таватуй, в лесу, на склоне горы. Такие горы на Урале называют долгими: она высокая, но склон у неё пологий. Чем выше по склону расположен садовый участок, тем ниже и скуднее на нём растительность. Участки в самом низу обихожены и удобрены. Хозяева их рачительны, они даже обзавелись мотоблоками, а иные держат кур и поросят. Самые верхние участки — у вершины горы — в сравнении с нижними представляют собой пустыню. Лишь изредка попадается здесь скудная, чахлая клубника да лук с укропом.
Такая, однако, тенденция.
Но что же тут удивительного?
Университетский физик из сада скажет сразу, что на горе всегда хуже с водой, а значит — суше. Университетский биолог добавит, что растения не любят, когда сухо. Университетский экономист расставит акценты несколько иначе. Да, на горе всегда хуже с водой, а потому люди побойчее и попрактичнеё сразу озаботились получить участки внизу. Ведь их экономический интерес состоял в том, чтобы эффективно заниматься сельским хозяйством.
Однако хозяйка участка на самом верху — психолог Галина Петровна Мажура — объяснила мне ситуацию иначе. Нижние участки окружены лесом — двадцатиметровыми соснами. Лес вокруг стоит стеной, так что взглядом не разгуляешься. От работы ничего не отвлекает. А вот с вершины горы видно далеко-далеко. Отсюда открывается гряда вековечных Уральских гор. Их вид сразу прекращает суетные помыслы. Уже не хочется сажать морковку или полоть сорняки. Практический разум цепенеет. Хочется сесть на колоду и, глядя на дивные дали, неспешно и безрезультатно думать о вечном. В смысле — о незыблемом и неизменном. О непрехобя- щем, то есть о неподвижном.
Это и есть те чувства, которые только и может вызывать зрелище подлинно русской природы.
Она есть зримый образ вечности.
Пейзажи Шишкина и Левитана покойны.
А Николай Рерих — рисовальщик Шамбалы — довёл традицию незыблемого русского пейзажа до идеального завершения (что, конечно же, можно было сделать только за границей, причём именно в Тибете). Скалистые горные гряды до небес — такой же прекрасно-нездешний идеал русского пейзажа, как далёкий Константинополь-Царьград — вожделенная и притягательная мечта для русского Православия.
Вот и спросим теперь: может ли природа — как её видит и ценит русский человек — вдруг стронуться с места и пуститься в пляс?
Такое глупое допущение сродни богохульству ансамбля «Буйство причинного места».
Ясно, что природа плясать не может.
Это пошлый и суетный человек может кривляться и скоморошничать на фоне вековечной и недвижной природы.
Но, оказывается, так думают далеко не все в мире.
***
Вот фрагмент «Природа», написанный, по всей видимости, ранним И. В. Гёте[1] 1. Рискнём привести его полностью — хотя бы уже потому, что 3. Фрейд, прослушав этот фрагмент в 1873 году на лекции, тотчас же решил заняться в университете не юриспруденцией, а медициной, чтобы быть ближе к Природе. Он полагал, что служители Всемогущей Природы будут править миром.
Итак…
«Природа! Мы окружены и объяты ею, не будучи в состоянии ни выйти из неё, ни проникнуть в неё глубже. Не спрашивая и не предупреждая, она вовлекает нас в круговерть своего танца и несётся вместе с нами, пока мы не выбьемся из сил и не выпадем из её рук.
Она создаёт вечно новые образы; то, что есть ныне, не бывало ещё никогда, то, что было, никогда не вернётся. Всё ново, и всё же всегда старо.
Мы живём среди неё и — чужие ей. Она беспрестанно говорит с нами и — не выдаёт своих тайн. Мы постоянно воздействуем на неё и всё же не имеем над ней ни малейшей власти.
Она, кажется, готова на всё ради того, чтобы произвести на свет индивидуальность, — и ни в грош не ставит индивида. Она постоянно строит и постоянно разрушает, и мастерские её недоступны.
Она живёт исключительно в своих детях, но их мать — где же она? Она уникальная искусница: из наипростейших материалов — величайшие контрасты; без малейшего видимого напряжения — к величайшему совершенству, к точнейшей определённости, всегда облечённой во что-то пластичное, чуждое резкости. Каждое из творений её имеет собственную сущность, каждое из явлений её — наиотдельнейшеё понятие, и тем не менее всё это составляет одно.
Она разыгрывает спектакль; видит ли она его сама, мы не знаем, и всё же она играет его для нас, стоящих где-то в уголке.
В ней — вечная жизнь, становление и движение, и всё же она не продвигается вперёд. Она вечно преображается, и ни на миг нет в ней покоя. Она и понятия не имеет о постоянстве и неизменности, а покой она удостоила своим проклятием. Она — крепка и незыблема. Поступь её размеренна, исключения её — редки, законы её не подвержены изменениям.
Она мыслит и чувствует постоянно, но не как человек, а как Природа. Она таит некий собственный всеохватный смысл, усмотреть который в ней не может никто.
Все люди — в ней, и она — во всех людях. Со всеми она ведёт дружескую игру и радуется тем больше, чем больше они у неё выигрывают. Со многими она играет столь неявно, что игра уже подходит к концу, а они всё не замечают этого.
И самое неестественное — это тоже Природа. Тот, кто не видит её везде и всюду, не видит её по-настоящему нигде.
Она любит сама себя и вечно не сводит с себя бесчисленных глаз, вечно прикована к себе множеством сердец. Она разделилась в себе, чтобы доставлять себе самой наслаждение. Она постоянно взращивает всё новых любителей наслаждений, чтобы неутолимо передавать себя всё дальше и дальше.
Она радуется иллюзии. Того, кто разрушает иллюзию в себе и в других, она карает, как самый жестокий тиран. Того, кто доверчиво принимает её, она прижимает к своему сердцу словно ребёнка.
Детям её несть числа. Ни с одним из них, где бы он ни был, она не бывает скаредна, но у неё есть любимцы, которым она даёт поистине расточительно и ради которых готова на многие жертвы. Величие — вот условие для её покровительства и защиты.
Она внезапно вызывает свои творения из небытия и не сообщает им, откуда они явились и куда направляются. Их дело — идти. Путь ведом ей.
Пружин, приводящих в движение всё, у неё не так много, но они не знают сносу, они всегда действенны, всегда разнообразны.
Её спектакль всегда — премьера, потому что она создаёт всё новых зрителей для него. Жизнь — прекраснейшее её изобретение, а смерть — просто уловка, на которую она пускается, чтобы иметь много жизни.
Она укутывает человека в глупость и постоянно побуждает стремиться к свету. Она делает его приземлённым и тяжеловесным, но снова и снова тормошит и встряхивает его.
Она дарует потребности, потому что любит движение. Чудо, что она добивается всего этого движения, используя столь немногие средства. Каждая потребность — во благо. Быстро удовлетворяется, быстро вырастает снова. Если она даёт одной потребностью больше, то это — новый источник радости и наслаждения. Но она быстро восстанавливает равновесие. Каждое из мгновений она заставляет тянуться предельно долго, и в любое из них она — уже у цели.
Она — сама суета и пустое кокетство, но только не для нас, для которых она поставила себя превыше всего.
Каждому ребёнку она позволяет ломать голову над своими загадками, каждому глупцу — выносить суждения о ней, тысячам — тупо проходить мимо и не видеть ровным счётом ничего; и радуется в каждом, и каждого заставляет заплатить ей сполна.
Её законам повинуются даже тогда, когда стремятся воспротивиться им, и действуют заодно с ней даже тогда, когда намерены действовать вопреки ей.
Всё, что она даёт, она превращает в благо, ведь она делает это поистине необходимым и незаменимым. Она не стремится вызвать страстное стремление к себе; она желает не вызвать пресыщения.
У неё нет ни языка, ни дара речи, но она творит языки и сердца, которыми она говорит и чувствует.
Венец её — это любовь. Только благодаря любви можно стать ближе к ней. Она создаёт бездны и пропасти меж всеми существами, и все они страстно желают слиться друг с другом. Она разделила всё, чтобы соединять всё. Она полагает, что после нескольких глотков из кубка любви отнюдь не повредит потрудиться ради жизни.
Она — это всё. Она вознаграждает себя сама и наказывает себя сама, сама радует себя и сама мучает. Она сурова и мягка, ласкова и пугающа, бессильна и всемогуща. Все и всегда суще в ней. Она не ведает прошлого и будущего. Настоящее — вот её вечность. Она добра и благосклонна. Я пою хвалу ей со всеми её творениями. Она мудра и тиха. У неё нельзя вырвать силой никакого объяснения, невозможно вынудить её сделать какой-то подарок — если только она не даст его добровольно. Она хитрит, но ради благой цели, и будет лучше всего не обращать внимания на её хитрости.
Она цельна, и всё же всегда остается незавершенной. Так, как она действует, она может действовать всегда.
Каждому она является в особом обличье. Она скрывается за тысячью имён и понятий, и она всегда одна и та же.
Она ввела меня в игру, она и выведет меня из неё. Я вверяю себя ей. Она может располагать мною. Она не станет ненавидеть своё собственное творение. Это не я вёл речь о ней. Нет, все, что истинно, и все, что ложно, сказала она сама. Всё — её вина, всё — её заслуга»[2] 2.
* * *
Если нарисовать эту стремительно движущуюся природу на картине, то получится тот самый бурный поток, в который нельзя войти дважды. «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку, и нельзя застать дважды нечто смертное в том же состоянии, ибо по причине стремительности и скорости изменений всё распадается и собирается, приходит и уходит».
Можно ли жить в таком мире непрерывной изменчивости, не впадая в невроз?
Ученик Гераклита Кратил ещё более заострил этот вопрос. Он заявил, что в одну и ту же реку нельзя войти даже один раз. Ведь воды в реке меняются с каждым шагом! А человек, который входит в них, меняется ещё быстрее! Он становится другим с каждой новой мыслью, с каждым новым чувством, с каждым новым ощущением.
Поэтому, утверждал Кратил, никого нельзя даже назвать по имени! Пока ты произносишь имя человека, он уже изменился!
В самом деле, станем рассуждать. Попробуем, глядя на бегущую стрелку своих часов, назвать время с точностью до секунды. Это невозможно! Пока ты говоришь самой быстрой скороговоркой: «Два часа пять минут пятнадцать секунд», уже станет два часа пять минут шестнадцать секунд. Точное время назвать нельзя — его принципиально нельзя выразить в слове. Но ведь мысль человеческая движется значительно быстрее секундной стрелки. За один миг можно мысленно перенестись из Владивостока в Москву и обратно! За один-единственный миг можно испытать такое, что ты уже никогда не будешь прежним!
Значит, и человека назвать по имени нельзя тоже. Пока ты называешь его прежним именем, он уже успевает измениться и стать кем-то другим — даже если его зовут не длинным именем Иммануил, а каким-нибудь причудливо кратким, американским Бак или Люк.
Логика Кратила была безукоризненной. Но вовсе не логичность рас- суждений имеет определяющее значение, когда люди решают, принимать им какую-либо философию или не принимать. Тут важно другое: можно ли с такой философией жить — именно так, как тебе хочется, но чувствуя себя при этом человеком значительным и уважаемым?
Учения Гераклита и Кратила этому требованию явно не удовлетворяли. Что же тут, спрашивается, уважать, когда всё течёт, а всякие стойкие принципы отсутствуют напрочь? Именно так, кстати говоря, Гераклит и воспринимал этот несносный для него, потомка царей, текучий демократический мир, где всё непрерывно меняются и ни на кого нельзя положиться. Он удалился от этого мира и играл с мальчуганами в ножички.
Несносные (сатирические, в сущности) умения Гераклита и Кратила о текучем мире вызвали у их земляков открытое неприятие. За недостатком логических контраргументов они прибегли к смеху. Эфесцы стояли на углу и разыгрывали страшно смешные интермедии.
— Слушай, отдавай мне долг, ты вчера занимал у меня деньги!
— Ты что же, не слышал, чему учит Кратил? Никого нельзя назвать по имени! Все мы непрерывно меняемся до неузнаваемости! Я сегодня – уже не я. И ты – уже не ты. Отойди от меня, незнакомец!
Страшно смешно было бы жить в мире, где у тебя непрерывно меняются сотрудники, родные и близкие, друзья, деловые партнёры. Так оно, собственно, и есть, только не надо об этом даже и думать…
Смех бывает разным. Иногда он происходит от ужаса. Вспомним хотя бы Пьеро, который велел Мальвине смеяться самым громким смехом, видя, что к ним приближается огромный и страшный Карабас…
***
Природа должна быть незыблемой и неизменной, чтобы жить покойно. И человек должен тоже быть незыблемым и неизменным. Если же он сбивается с пути и начинает меняться с каждым чихом, его надо привести к порядку, указав на неизменность сотворённого Богом мира.
Так полагает носитель старорусского менталитета. Природа — это величественный и неподвижный Храм Божий, а не место для дрыгоножества и рукомашества. Суета на природе и в храмах вообще противоестественна. Нельзя торопливо и дёрганно служить чему-то высокому, пребывающему в веках.
В недавно переведённой мною книге Ф. Г. Юнгера об играх есть потрясающий пассаж о неблагородстве быстрых и технологичных движений:
«Хорошему матадору не к лицу торопливость и суета, он не может создавать впечатление, что это бык вынуждает его делать те или иные движения и выводит из душевного равновесия. Свободными медленными движениями он приближается к быку и плавно разворачивает непостижимо грациозную игру мулеты. Если он достиг вершин своего искусства, то в каждом из его движений являет себя избыточность — прежде всего избыточность времени… Человек, не располагающий временем, не имеет и благородства; от наличия этого, часто крохотного, избытка времени у матадора зависит многое — изящество, благородство, красота движения»[4] 3.
Это надо понимать так. Матадор вполне мог бы двигаться быстро и технологично — и, кстати, гораздо меньше подвергал бы при этом опасности свою жизнь. Но такая поспешность выдавала бы его неблагородство. Он должен намеренно замедлять свои движения, чтобы продемонстрировать их благородство и красоту — пусть даже бык проносится от него в нескольких сантиметрах. Если бы бык не проносился рядом, благородство можно было бы принять за лень.
За любым просчитанным, спешным и технологичным, движением стоит низкая страсть к наживе: желание быстрее произвести, быстрее продать, быстрее заработать. Отработанные до автоматизма рациональные образовательные технологии превращают университет из храма в торжище, «реализующее» образовательные услуги.
«Реализатор» знаний неблагороден. Он полагает, наивный, что до него знания были нереальными или, что то же, неликвидными. Реализовать знания — значит придать им ликвидность и ликвидировать их на складе. Склад после этого можно ликвидировать тоже.
Истины на рынке быть не может, ибо рынок есть место для надувательства. На рынке надо поспешать. А в храме надо быть неспешным, чтобы обрести истину. Коррида лучше всего иллюстрирует это.
«…B борьбе с быком непозволительно демонстрировать ни одного движения, которое было бы несообразно благородству животного, — ничего низменного, вульгарного, коварного. Борьба должна демонстрировать не изощрённую искусность, а благородное, простое, размеренное движение человека, который определил себя в противники быку. От матадора требуется не в первую очередь искусность — от него требуется истина и достоверность. Час, в который происходит Estocada — умерщвление быка, — испанцы называют „час истины“. От матадора, который идёт на быка, требуется совершенно открытая, абсолютно прозрачная игра, которая являет себя в фигурах пластической и ритмической чистоты. Строгость правил игры возрастает по мере приближения её к концу; они устанавливают столь узкие рамки, что каждое движение матадора должно быть выверенным и проверяемым. По движениям его должно читаться, что он — небезрассуден, храбр, силен духом и владеет собой, а умонастроение его — благородно»4.
Искатель истины должен быть неспешен. Иначе он истины не обретёт, ибо неблагородным истина себя не открывает. Благороден же только тот, кто не торопится, а движется плавно и неспешно, временами впадая в неподвижность.
Именно таков благородный матадор. И благородный человек вообще.
«Спокойствие, сила, задор, уверенность и твёрдость в движениях — всё это не может быть наигранным, акцентированным, показным. Матадор переходит к игре из состояния безмолвной неподвижности и возвращается из игры в состояние неподвижности и безмолвия. От него требуется то, что испанцы называют „templar“ — медленное плавное движение, посредством которого замедляется и делается плавным также движение быка. Он демонстрирует „parar“, когда, стоя неподвижно, словно статуя, ожидает мощной, тяжеловесной атаки быка» 5.
Природа есть присутствие сотворившего её Бога.
Только незыблемая природа, которая не движется совсем, — или очень неспешно движется по кругу, вечно возвращаясь в том же самом виде, – может быть олицетворением того Высокого и Благородного, которому хочется служить верой и правдой.
Таково же и незыблемое государство — как присутствие Бога на русской земле. Русская мысль ни разу не опустилась до теории общественного договора: дескать, государство было создано в результате сговора людей, стремящихся к своей выгоде. И с царем «от людей» на Руси приходилось мириться лишь в самом бедственном случае.
Государство — как присутствие Бога на русской земле — тоже не может быть торопливым. Иначе посетители государственных учреждений могли бы подумать, что оно неблагородно. Оно должно пребывать в состоянии неподвижности и безмолвия, периодически очень медленно и плавно выходя из этого состояния и тут же медленно впадая в него снова. Наличие разъярённых посетителей, изрыгающих угрозы, лишь подчёркивает благородство государственного человека. Не пугают его и суетные силовики, внезапно осуществляющие какие-то выемки документов в государственных кабинетах: и они тоже есть государство, а потому впадут после этого стремительного усилия в неподвижность и безмолвие на долгие годы — до самого суда, вовсе не страшного, ибо — человеческого.
Сама попытка применить к государству понятия полезность и эффективность — наивна и оскорбительна. Это всё равно, что пытаться подзаработать денег прямо во время богослужения. Самого присутствия в храме достаточно, чтобы служить Богу. Ведь присутствие в храме уже есть знак подтверждения и приятия вековечного богоустановленного порядка. Приход чиновника в русское присутствие 6— то есть государственное учреждение — есть не проявление его стремления быть эффективным, но демонстрация лояльности к богосотворённому космосу. Важно вовремя прийти, как вовремя восходит и присутствует солнце. Но солнце, присутствуя, не думает о своей эффективности. Она получается (или не получается) у солнца сама собой, ибо солнце послано в мир не им самим.
Если государство лишится благородства и перестанет воплощать собою незыблемость и неспешность Горнего Мира, а начнёт оказывать рыночные услуги, оно тут же предстанет бессмысленно-отвратительным вне великой миссии своей. Потому что инновации и технологии — дело бизнеса, но не государства. И государство, вознамерившееся торговать, предстанет неуклюжим и неповоротливым — словно степенный петровский боярин уже без бороды в ряду ушлых пройдох-приказчиков, привыкших торговать на улице пирожками.
Именно таким — бесполезным для повседневности — и видит государство антихристианин Ницше, вещая о бездуховном государстве устами нехристя и самозванного пророка Заратустры. И он прав в одном: в отсутствие Бога государство отмирает, как учили ницшеанцы-большевики. Государство может быть вековечным, если поднимется выше суеты и повседневности. Оно должно вызывать у человека мысли о вечном — и желание впасть в покой перед лицом незыблемого Бытия, которое всё равно никак не изменишь. Но если государство забудет об этой экзистенциальной роли своей, если же оно станет просто правовым, то есть удовольствуется всего лишь установлением и отслеживанием своекорыстных правил от людей, принятых по предварительному сговору в первом, втором и третьем чтении, оно сразу же разоблачит свою никчемность, суетность и гибельность.
«Где-то существуют ещё народы и паствы, но только не у нас, братья мои: тут существуют государства.
Государство? Что это такое? Вот, пожалуйте! Слушайте меня хорошенько: я скажу вам слово своё о смерти народов.
Государством зовется самое хладное из всех хладных чудовищ. И лжёт оно тоже хладнокровно; и вот какая ложь выползает из его пасти: „Я, государство, и есть народ“.
Это — ложь! Творцы и созидатели — вот кто создал народы и простёр над ними веру и любовь: так они служили жизни.
Разрушители — вот кто создал ловушку, в которую попались многие, и зовётся она государством: они подвесили над попавшими в западню меч и сотню ненасытных желаний.
Там, где ещё существует народ, он не понимает государства и ненавидит его — как дурной глаз и как посягательство на обычаи и права.
Вот на что укажу я вам: каждый народ говорит своим языком добра и зла; сосед не понимает его. Свой язык обретает он для себя в обычаях своих и правах.
Но государство лжёт на всех языках добра и зла; и что оно ни скажет, всё — ложь, а что ни есть у него, всё это украдено им.
Всё в нём фальшиво, всё — ложно; кусает оно украденными зубами, кусачее. Фальшивы даже внутренности его, вся его утроба.
Запутывание посредством языка того, что есть добро, а что зло — вот на какой верный признак государства укажу я вам. <…>
Слишком много людей родилось на свет: для избыточных людей и было выдумано государство!
Смотрите же, как оно их притягивает, этих излишних! Как оно заглатывает их, как жуёт и пережёвывает!
„Нет на земле ничего более величественного, чем я; я есмь указующий перст Бога, устанавливающего порядок“ — так ревёт чудище. И опускаются на колени не только те, кто далеко слышит длинными своими ушами, и не только те, кто в близорукости своей не видит дальше собственного носа.
Ах, и в вас, великие души, оно тоже насаждает свою угрюмую ложь! Ах, оно умеет распознавать щедрые сердца, которые любят себя расточать и раздаривать. Да, оно добирается и до вас тоже — до вас, победителей старого бога! Вы устали от борьбы — и сейчас эта усталость на руку новому идолищу.
Оно хотело бы окружить себя героями и триумфаторами, снискавшими почести, это новое идолище. Оно любит сиять в отражённом свете чистой совести, это хладное чудище.
Оно хочет дать вам всё, если вы станете поклоняться ему — это новое идолище: так оно покупает себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей. <…>
Государством называю я то место, где пьют яд все — и хорошие, и плохие; государство — это то место, где все теряют себя — и хорошие, и плохие; государство — это место медленного самоубийства всех, самоубийства, которое называют „жизнью“.
Посмотрите же на этих избыточных! Они присваивают себе творения изобретателей и сокровища мудрецов: свою кражу они называют образованием — и всё оборачивается у них недугом и нескладицей!
Посмотрите же на этих избыточных! Они недужны всегда, они исторгают из себя желчь — и называют это прессой. Они проглатывают друг друга — и не переваривают друг друга.
Посмотрите же на этих избыточных! Они приобретают богатства — и становятся беднее от этого. Власти хотят они и, для начала, хотят обзавестись орудием, которым прокладывается путь к власти, — большим состоянием: они, эти несостоятельные!
Посмотрите, как они скачут по ветвям, эти шустрые обезьяны! Карабкаясь вверх, они перескакивают друг через друга — и срываются, падая в грязь и в бездну.
Все хотят подобраться поближе к трону: в этом — безумие их; как будто на троне сидит счастье! Часто на троне сидит грязь — да и трон тоже часто стоит на грязи.
По мне, так безумны все — и карабкающиеся вверх обезьяны, и те, кто охвачен горячкой. По мне, так дурно пахнет их идолище — это холодное чудовище; по мне, дурно пахнут все они — те, кто служит и поклоняется этому идолищу.
Братья мои, разве же вы хотите задохнуться в том смраде, который исходит из их мерзких ртов, и в той вони, которую вызывают их вожделения? Лучше выносите рамы и выскакивайте вон — на волю, на свежий воздух!
Прочь от смрада! Подальше от идолопоклонства людей избыточных!
Прочь от смрада! Подальше от вонючего дыма этих человеческих жертвоприношений!
И сегодня ещё открыта земля для великих душ, чтобы они обрели на ней свободу. Есть ещё незанятые места, где могли бы поселиться отшельники-одиночки и отшельники, удалившиеся от мира вдвоём, — такие места, где веет дух спокойного моря.
Ещё открыт для великих душ путь в вольную жизнь. Поистине, чем меньшим владеет человек, тем больше владеет собою, чем меньше он держит добра, тем меньше он одержим. Так будем же слегка бедными!
Там, где кончается государство, только и начинается нелишний, неизбыточный человек: там начинает звучать песнь человека необходимого — напев неповторимый, который не заменить ничем. <…>
Так говорил Заратустра»7.
Возможно, надо уйти подальше в лес, чтобы осуществить Великий Российский Отказ от государства и неспешно петь в чаще песни под гитару в храме Природы — о том, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и пускаем алюминиевую чашу по кругу; надо не блистать в городах, чтобы в лесном храме упокоилась бродячая душа, заслышав в себе бетховенские сонаты и произведения Грига. (Вот только суетны они, эти западные произведения, в которых судьба стучится в дверь, то есть ведёт себя подвижнонедостойно; лучше петь у костра хором, соборно.)
И ещё надо получать мало и владеть малым, чтобы лучше владеть собой. Ибо сказано: «Материальные блага не могут сделать человека счастливым»8.
Или надо удалиться в университетский сад, восстановив его былую святость: ведь завезли к нам огородничество именно монахи из Византии, прибывшие крестить Русь при Владимире Святом; овощи поддерживают в пост, разнообразя стол человека благочестивого, но пост есть условие возникновения огородничества как искусства!
На вершине долгой горы у станции Таватуй — в горнем мире, откуда открываются скалистые гряды, — куда больше поста, чем внизу, где хрюкает скоромное.
Там, внизу, служат мамоне при помощи мотоблока, изобретённого каиновым политехническим племенем. «В Священном Писании сказано, что первыми строителями земной цивилизации были потомки Каина: Ламех и его дети изобрели и произвели первые орудия из меди и железа, переносные шатры и различные музыкальные инструменты, они явились родоначальниками многих ремёсел и искусств (Быт. 4, 20-22). <…> По воле Творца цивилизацию каинитов завершает потоп»9
.
А служить надо вечному, незыблемому, то есть — государству. «На частника мы работать не будем», — сказала автору этих строк в суетные девяностые годы ныне уже покинувшая этот мир Галина Петровна Федосеева, выдающийся российский биолог, директор ботанического сада Уральского государственного университета, также убитого ныне технократической каиновой суетой.
Тут всё дело было в том, что качканарские руды очень бедны железом. По этой причине Качканарский горно-обогатительный комбинат по сей день обогащает их, чтобы отправить на Нижнетагильский металлургический комбинат. Обогащение, если объяснять доступно для гуманитариев, осуществляется так: бедную руду надо растереть в песок, потом залить водой и поместить в бочку; если бочку вращать, всё тяжёлое — то есть содержащее железо — под действием центробежной силы отлетит к стенкам бочки (особенно если ещё поставить по бокам магниты); в середине бочки останется только никчёмная пустая порода с водой. То есть — грязь. Песок и вода, которые когда-то были богосозданным пейзажем.
Руду надо увезти, чтобы выплавить из неё металл и построить танки для сохранения незыблемости государства. А грязь придётся слить в озеро.
На этой грязи, понятное дело, не вырастет ничего. Вода высыхает, остаётся песок. Поднимается ветер. Песок поднимается над Качканаром смерчем, а потом скрипит на зубах. Это скрежет зубовный, произведённый каиновым инженерным племенем.
Университетский биолог Галина Петровна Федосеева сотоварищи поставила себе памятник: вырастила на этом «лунном грунте», на котором в принципе не могло произрастать ничего живое, траву. Если смотреть сверху на большое озеро грязи, половина его теперь зелёная — и не пылит. На вторую половину русского индустриального пейзажа финансирования не хватило, потому что государство попыталось стать динамичным.
Университетские биологи зажили впроголодь, как и подобает нестяжателям
и иным святым университетским людям. Стоимость их часа — две бутылки кефира, а годовой доход равен месячному доходу милицейского лейтенанта.
Им предложили зарабатывать деньги инициативно (это и называется инновациями). Им предложили на коммерческой основе зарастить травой такие же лунные ландшафты, только вокруг коттеджей новых русских, построенных во множестве вокруг Екатеринбурга. Университетские коллеги Адама, садовника в Эдемском саду, отказались наотрез.
Они сказали, что на частников работать не будут. Только на государство. Они скорее озеленят Луну и заставят цвести яблони на Марсе, чем будут служить стяжателям.
Монастыри не реформируются.
Если вдруг будет поставлена задача войти к 2020 году в число ста лучших коммерческих монастырей мира, у нас это вряд ли получится.
Русские государственные университеты не реформируются тоже. Их служители не желают работать на частника и вообще не хотят сами зарабатывать деньги. Они хотят познавать истину и возвещать её миру.
И у государства русского тоже никогда не получится организовывать бизнес: со своим степенством оно не выдержит конкурентной борьбы и непременно потерпит крах, за который будет мстить лишением свободы и силой оружия. Дело русского государства в другом: поддерживать вековечный порядок вещей. И, конечно, совсем не дело его — изменять течение времени, повелевая им.
Это безбожники-большевики кричали: «Время, вперёд!» Потом стяжатели-американцы придумали тайм-менеджмент, то есть управление временем. Люди простодушные поверили их выдумке и пытаются кричать по сей день: «Время, вперёд! Время, назад!» Но всё это есть соблазн, ибо время дано человеку Создателем. И не может человек управлять им.
Пагубно одному и тому же человеку быть разделённым в себе: стремиться к инновациям и ратовать за христианство, инновации запрещающее. Не надо верить Западу и в том, что государство должно приносить пользу и процветание. Стоит только пуститься в эту потребительскую гонку, как ей не будет конца. Лучше в ней не участвовать совсем. Ибо иерархи русской церкви решили: деньги счастья не принесут. Человек достойный в России служит — но ему тошно прислуживаться, поспешая.
Государственные услуги есть нонсенс, ибо есть слуги шустрее, чем государство. Надо уничтожить всех остальных слуг, чтобы государственные услуги были успешными. Потому и компьютеры, призванные ускорить их оказание, в России многократно замедляют дело. Каиново племя компьютерщиков снова наказано потопом информации, которую плодят чиновники.
Государство не может адаптироваться к рынку, ибо оно есть присутствие Иного в повседневности, и в этом качестве непрерывно стремится покончить с рыночной суетой, отвлекающей от сути бытия.
Не может адаптироваться к рынку и человек со старороссийским менталитетом. Он не стремится к наживе и заработку. Его выход на работу есть всего лишь подтверждение лояльности миропорядку. Не результата взыскует он,
а процесса. Лишь наивному Ю. Шевчуку не дано постичь «радость большого труда, непонятного смыслом своим». Все остальные знают, что в нашем труде нет корыстного смысла. Задача нашего труда иная: включать человека в неспешный круговорот природы.
Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма мы поймём, что идут чабаны.
Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки 10.
Встать поутру, засветло, прийти вовремя, делать всё с достоинством и неспешно, ждать обеда, потом — конца рабочего дня. Степенно и вовремя отправляться домой ужинать. Не блюдущий обеденного перерыва способен посягнуть на основы мироздания и государства. Ибо обед — знак полдня, а полдень — важная веха в распорядке дня, установленном Создателем. Обед и обедня — в равной степени подтверждение принятия этого распорядка человеком благочестивым.
Отчёт русского работника всегда есть отчёт о проделанной работе, а не о результате. Это описание процесса. Результат известен заранее — это вечное повторение того же самого. Нет нужды говорить о нём человеку достойному. Он знает. И понимает, что низок желающий получить неположенное — сверх оклада.
Подлинный российский труд должен быть бессмысленным, бесполезным и окладистым — как окладистая борода, придающая степенство и достоинство. Труд, направленный на получение прибыли, греховен.
«VI. Труд и его плоды.
VI.3. Совершенствование орудий и методов труда, его профессиональное разделение и переход от простых его форм к более сложным способствуют улучшению материальных условий жизни человека. Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведёт к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в истории человечества всегда заканчивалась трагически.
VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся»11.
Инновации противоестественны и богопротивны, ибо изобретатели — каиново семя. Два Рима пали, потому что изобретали новое. Третий стоит, потому что ничего не изобретал и не стремился служить «эгоистическим интересам личности и человеческих сообществ».
Университетские биологи могут вырастить траву на Луне. Но они не будут опошлять своё высокое знание, выращивая её в саду частном, а не в саду Эдемском или в саду государственном.
Суета каинова политехнического племени причудлива.
Ректор Уральского Государственного Горного университета Николай Петрович Косарев тоже принадлежит к этому племени, ибо — горный инженер, а потому чересчур динамичен для ректора. Но не в поисках государственной степенности, а в поисках пущей динамики он затеял преподавать богословие у себя в университете и предлагает начинать учёные советы молитвой, а теперь каламбурит, именуя свой университет Горним. Конечно, Гераклит говорил, что путь вниз и путь вверх — один и тот же путь. Но это затейливое языческое суемудрие. Праведные же знают, что устремление ввысь, к небесам, противоположно устремлению вниз, в недра, по направлению к пеклу: не горний, а преисподний тот институт, ибо учит добыванию прибыли и освоению природных богатств, созданных Творцом для всех.
По той же причине несообразно и небогоугодно уже само такое название — Богословский алюминиевый завод. Либо он богословский, либо он алюминиевый. Раздвоенность в себе губительна. Так что неспроста терпит непрерывные трудности этот завод в своём Краснотурьинске — будто проклятый Небом.
Старорусский менталитет живёт в каждом из нас. Он передаётся по наследству великой нашей литературой. Он подсказывает всем и каждому, что Третий Рим не должен меняться, если намерен устоять. Мы не копим деньги на перемены. Мы спускаем их немедленно, как рыцари — деньги у нас не задерживаются, и хозяйство наше сквозное.
Зато нас зовут, как рыцарей, по отчеству, что на Руси — признак дворянства. Русский человек вынесет всё, кроме одного — лишения отчества. Не вынесет, если его персонально за какие-нибудь безобразия и бесчинства будет запрещено именовать по батюшке. А велено будет именовать просто, как американцев: Бак или Люк, не говоря, — Чеевич.
Даже Дума — испытание наше и кара за прегрешения, посланные Небом, — не может и помыслить в числе новых, суровых и непомерных, наказаний за все проявления жизни такого чудовищного зверства — лишения человека отчества.
Это тебе не лишение прав на два года. Это — лишение корней. Без прав, но с отчеством можно жить достойно. Обратное — неверно. Нам, дворянам в составе всего народа, негоже лить воду на мельницы частников и возделывать их сады. Дворяне не участвуют в рынке. Они посылают на рынок челядь.
Где же выход? Ведь всё ещё пылит на ветру половина озера под Качканаром… Вековечный пейзаж нарушен. И не помогает даже буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, воздвигнутый на отроге горы Качканар, в котором ламой Тензин Докшит (бывший снайпер КГБ Михаил Санников, увидевший в прицел, как плачет душманская лошадь, — и уверовавший, так и не выстрелив). Металлурги купили себе величественную гору Качканар, и будут скапывать её на руду, а грязь сливать в озеро. Буддийский храм, кирпичи на который — по одному — несли от подножья паломники, будет перемещён. Каиново политехническое племя наступает — и христианский храм, недавно возведённый на противоположной горе, тоже не может сдерживать его.
Разрешить эту проблему мог бы только философ, но он гоним и сокращаем ныне технократическими властями, которые веруют в превращение неперспективных университетов в перспективные ПТУ.
Российская махина двинется с места только тогда, когда в этом движении философ увидит бытийный смысл и соработничество чему-то Высшему, Трансцендентному — и донесёт этот смысл до всех других. Только философ сможет объяснить богослова политехнику, а политехника – богослову.
И вот тогда, осознав, что он делает достойное дело, русский человек будет неудержим. Он не станет искать предначертанные дороги с какими-то идиотскими американскими «дорожными картами», где указаны все Макдональдсы и туалеты. Ещё Наполеон Бонапарт сказал, что дорог на Руси нет — есть только направления. А направления мы определяем не географически. Мы не ищем дорогу, а выбираем путь. Он может где-нибудь совпадать с проложенными дорогами, а где-то наверняка совпадать не будет. Но нам нет равных в движении по бездорожью: спросите хоть в Даккаре.
И путь наш не будет определяться рынком, потому что рынок для нас — средство, а не цель. Если же это средство не сработает, мы снова не постоим за ценой, устремляясь к победе по пути, который не зависит от дорог, введённых в Джи Пи Эс.
Ведь «Русское радио» когда-то сказало правду: «Русские называют дорогой то место, где они собираются проехать».
Александр Перцев. Русский пейзаж в свете всемирной философии. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 8, страницы 236-252
Скачать текст
Примечания
- См. об этом: Перцев А. В. Беседы с врачами как философский жанр // История философии. Учебное пособие / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 2001.
- [Die Natur], Fragment // Göthes Werke in zwölf Bänden. Berlin; Weimar, 1981. Bd. 12. S. 10-13.
- Юнгер Ф. Г. Игры. Ключ к их значению. СПб., 2012. С. 203.
- Юнгер Ф. Г. Игры. Ключ к их значению. СПб., 2012. С. 261.
- Юнгер Ф. Г. Игры. Ключ к их значению. СПб., 2012. С. 264.
- Присутствовать — означает непрерывно находиться при сути, которая, разумеется, недвижна, как недвижен аристотелевский Нус.
- Nietzsche Е Also sprach Zarathustra // Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Neuausgabe 1999. München, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co.KG. Bd. 4. S. 61 ff.
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Принято Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 августа 2000 года // Православие и духовное возрождение России. Екатеринбург, 2003. С. 354.
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Принято Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 августа 2000 года // Православие и духовное возрождение России. Екатеринбург, 2003. С. 352.
- Вознесенский А. А. Тишины! // Вознесенский А. А. Собр. соч.: в 5 т. T. 1. М., 2000. С. 84-85.
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Православие и духовное возрождение России. С. 352.