Поделиться "Владимир Руднев. В начале двадцатого века. Фрагмент автобиографического очерка"
2,624 просмотров всего, 4 просмотров сегодня
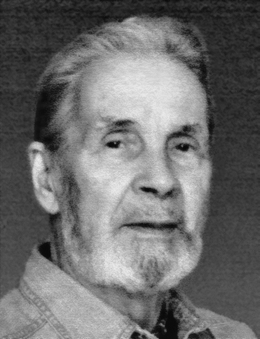 Владимир Руднев. Литератор. Родился в 1919 году в селе Манаенки Арсеньевского района Тульской области, в семье приходского священника. В 1928 году семья переехала в город Дмитров Московской области. В 1937-1939 годах — студент Архитектурного техникума (Москва).
Владимир Руднев. Литератор. Родился в 1919 году в селе Манаенки Арсеньевского района Тульской области, в семье приходского священника. В 1928 году семья переехала в город Дмитров Московской области. В 1937-1939 годах — студент Архитектурного техникума (Москва).
С октября 1939 по сентябрь 1944 года проходил службу на Тихоокеанском флоте, с октября 1944 года — курсант Военно-морского политического училища (Ленинград). Участник Парада Победы. В 1947-1951 годах служил на Балтийском флоте.
В 1955 году закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1953 по 1964 год — заведующий научно-просветительским отделом Музея истории религии и атеизма. С 1971 года — доцент кафедры философии Высшей профсоюзной школы культуры (ныне Гуманитарный университет профсоюзов). С 1983 года на пенсии.
Кандидат исторических наук. Член Ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Опубликовал сборники избранных стихов, автобиографические и публицистические очерки.
В доме моего отца — протоиерея и благочинного Александра Ивановича Руднева — царили страх и напряжение ожидания беды, грозящей со всех сторон. Это ощущение пришло и ко мне в трёхлетнем возрасте, когда Гражданская война переросла в русскую «Вандею», когда срединные губернии страны были охвачены борьбой за власть и за искоренение одних слоёв населения другими.
О том, что творилось в те годы в наших краях, я, конечно, смог домыслить лишь многие годы спустя, но живые впечатления того времени остаются и по сей день неизгладимо яркими, выхватывающими из потока дней картины не менее впечатляющие, чем брюлловская картина «Гибель Помпеи». Взять хотя бы картину горящей слободы среди полуночи, когда всё небо охвачено багрово-алым заревом и застилается чёрными всполохами гари и дыма. А в это время над всем этим огнищем плывёт, не умолкая, набат сельской церкви, и этот набатный гул сливается с гулом и рёвом людских голосов, с рёвом скотины и лаем собак.
Такую музыку, вероятно, не смог бы сочинить ни один симфонист в мире, ибо нет в мире ничего более неистового и грозного, чем стихия народного бедствия. Остаётся только удивляться: как уцелел мой родительский дом, а сами его обитатели остались невредимыми во время этой жестокой и беспощадной передряги? Всё дело, по-видимому, было в том, что моему отцу как-то удавалось отвести от своего дома и от самого себя беду с помощью того авторитета, каким он пользовался у большинства сельских жителей. Этот вывод я смог сделать лет сорок спустя, когда посетил родное село и встретился с его старожилами. Тогда меня поразили слова одного почтенного седобородого старца: «Твой-то батюшка был особый человек, он был народник!» Услышав эти слова, я не смог удержаться от слёз. Что может быть выше этой простосердечной оценки сущности человека, исходящей из уст самого твоего народа?
Без уяснения того, кем являлся в те годы мой отец, невозможно и понять то, что творилось вокруг и в самой стране. А суть этого вопроса состоит в том, что двигательной силой жизни и всех житейских процессов всегда и при всех условиях являются не только массы или классы, но и те люди, вокруг которых возникают и общественное мнение и само действие (как с положительным, так и с отрицательным зарядом). Если пытаться понять или отобразить реальные факты в той или иной форме (в том числе художественной), необходимо найти эти фигуры, эти личности — и лишь тогда эти факты и события обретают качества того, что мы называем действительностью. Однако и сама эта личность детерминирована действительностью, в которой она произросла и сформировалась. Для России и русского общества это обстоятельство является особенным фактором — это не что иное как «родословная» той самой чётко обозначенной в жизни народа личности, воспринимаемой им как «вожак», «исповедник», «глашатай», «заводила» и во всякой иной отведённой народным мнением роли и репутации.
Мой отец был типичным представителем русской интеллигенции, которая возникла и сложилась в разночинной России после великой реформы 1861 года и отмены крепостного права. Этому способствовало и введение «земства» и провозглашение политики, девизом которой явилось «самодержавие, православие и народность»1, — таким образом в России появилось своеобразное «третье сословие», которое стало носителем либерализма и революционных идей.
Рудневы незнатного происхождения, вели свой род от одного предка — Кондратия Рудого, выходца из Слободской Украины, перешедшего при царе Алексее Михайловиче на царскую службу в должности дьяка Поместного приказа и принявшего фамилию Руднев. В последующие времена эта фамилия укоренилась в городах Средней России в среде новообразованного поместного дворянства, чиновничества и духовенства. Отцом моего отца был полковой священник Иван Михайлович Руднев, служивший в Туркменистане 2.

По материнской линии отец происходил из рода Успенских в Туле и приходился племянником Глебу Успенскому. Он окончил Тульскую семинарию и за блестящие успехи в учёбе и богословских науках был удостоен звания протоиерея с назначением на пост благочинного в село Монаенки Арсеньевского уезда 3. В годы ученические рядом с отцом шли такие известные фигуры нашей культуры, как о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, будущий патриарх всея Руси Алексий (Симанский).
Способности моего отца высоко оценивал митрополит Сергий (Страгородский). Отец обнаруживал глубокие познания в области математики, астрономии, метеорологии, ботаники, теории музыки, мировой истории; занимался живописью и помимо всего владел пятью языками.
Забегая вперёд, скажу: все эти его способности и огромные знания при его жизни не были востребованы советской властью. Он, как и многие ему подобные светлые умы, был низведён на уровень «бывших», «лишенцев». И при всём этом мой отец был невольным проводником осуществления «демократических» идей в России, наследуя идеологию народничества и революционной демократии. На него несомненное влияние оказало так называемое «обновленчество», возглавляемое протоиереем Александром Введенским. И теперь, находясь в эпицентре революционных стихий, он вообразил себя народным защитником, радетелем интересов трудового крестьянства и причислял себя к партии эсеров; посещал сельские сходки, выступал в поддержку бедноты с проповедью христианского социализма, тем самым делая своё будущее всё более опасным и непредсказуемым. С одной стороны — ненависть сельских богатеев-нэпманов, с другой — симпатии сельской бедноты и коммунистов. Он становился как бы заложником и тех и других. Однако отец по-донкихотски не хотел видеть опасность своего положения и с прежним рвением кидался в водоворот событий: ходил на сходки, на молитвенные собрания местных баптистов, посещал избы болящих и подчас возвращался к себе домой за полночь.
Глубокомыслие моего отца сопровождалось неимоверной рассеянностью. Он буквально отключался от действительности, погружаясь в размышления. Они одолевали его повсюду, и он мог, шагая по селу, не замечать людей и не отвечать на их приветствия или вопросы и только спохватывался, когда его громко окликали. И как всякий рассеянный человек, он не испытывал чувства страха или опасности, и по-видимому, это бесстрашие помогало ему выходить из всякого рода передряг сельской жизни.
Легендой нашей семьи и всех Рудневых был и остаётся также командир крейсера «Варяг» — Всеволод Фёдорович Руднев, который приходился двоюродным братом Ивану Михайловичу Рудневу. Оба они родились в предместье города Венёва Тульской губернии в одном и том же 1860 году. Оба учились в одной и той же Венёвской гимназии, закончив которую, Всеволод стал гардемарином Морского училища, а Иван поступил в духовную семинарию города Тулы. После её окончания был рукоположён в священники Военного ведомства и уже в этом сане как полковой священник участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, проявив себя как герой, и был награждён именным оружием самим М. Д. Скобелевым. На сабле была гравировка «За героизм, проявленный в сражениях». Мой дед показывал её мне не раз, доставая из укромного места в начале 30-х годов. Он участвовал и в Туркестанском походе генерала Скобелева, а позже, в 1900 году последовал за своим братом в Порт-Артур в той же роли — как базовый священник 4.

Дружба братьев не прекращалась вплоть до 1913 года, когда Всеволод Фёдорович Руднев скончался в своём имении в деревне Савино Заречен- ского района Тульской области и был похоронен в той же деревне, около церкви. Дед Иван Михайлович, проживавший по соседству в селе Чернь, участвовал в похоронах. Его могилу я посещал вместе с отцом в 1927 году, когда мне исполнилось восемь лет.
Моя впечатлительность в раннем детстве развивалась семимильными шагами. К пяти или шести годам я обладал познаниями окружающего нашу семью мира настолько, что мог вникать в события жизни села и большинства его родов и семей. Эти впечатления выстраивались в многосложную драматургию с её яркими и суровыми образами и коллизиями. В этом процессе главенствующее влияние на мои способности оказывала моя матушка Ольга Ивановна.
Она родилась в 1892 году в подмосковном городе Можайске в семье учителя гимназии Ивана Осиповича Соколова — незаконнорожденного, отданного его богатым и знатным родителем на воспитание в дом мещанина Соколова. Дед получил приличное образование и воспитание, окончил учительский институт, учительствовал в сельских и городских школах и гимназиях, а затем был удостоен чина коллежского асессора и назначен инспектором народных учебных заведений. В его характере совмещались приметы дворянина (1858-1935) и мещанина; строгая педантичность и привередливость сочетались в нём с приступами весёлости и бесшабашности, поэтому с ним надо было держать ухо востро — то ли он даст тебе пятачок, то ли отпустит затрещину.

И моя матушка была соколовской породы, однако обладала многими душевными талантами — отличной памятью и слухом, необыкновенной артистичностью, умением подмечать любые нюансы и тонкости происходящих событий и воспроизводить их в своих домашних театрализованных представлениях. И всё это в ней сочеталось с высочайшей требовательностью к каждому из её четверых детей. От её внимательного взгляда не ускользал ни один их поступок или проступок. Она умела не только строго наказывать, но и поощрять каждого из своих детей в любом занятии или увлечении. До своего замужества она окончила учительскую гимназию и получила профессию учительницы начальной школы. Однако ей не довелось долго учительствовать — она вышла замуж за моего отца, сельского священника, стали рождаться дети, и расти их количество. При этом она оставалась домашним учителем во все годы нашего обучения, именно ей мы были обязаны своими успехами в обретении знаний и трудовых навыков. Наша домашняя школа включала и занятия музыкой, хоровое пение, рисование, природоведение. Всё это могло стать основой для плодотворного развития талантов и способностей в каждом из её детей, если бы обстоятельства жизни не обрушивали на головы моих родителей неимоверно тяжкие испытания и потрясения.
В начале двадцатых годов разразился ужасный голод и сопутствующий ему мор от тифов и прочих эпидемий. За эти годы вымерло более половины жителей нашего села, опустели сотни домов, поля заросли бурьяном. Вся наша семья — родители и четверо детей — переболела тифами и чудом спаслась от смерти. И это чудо свершилось благодаря помощи друзей нашего дома и в первую очередь благодаря ухаживанию за нами со стороны одинокой пожилой женщины Марфы Фетисовой. Это она выходила всю нашу семью, призвав на помощь всю свою родню. Спасало и то, что в нашем большом поповском доме поддерживались тепло и относительная чистота. Марфа сумела призвать на помощь тех, кто уважал и ценил своего батюшку, которого никто не называл попом, лишь только Ляксандрой Иванычем. Сельские жители не менее ценили и уважали и матушку Ольгу Ивановну. Нас спасало и то, что называют Церковью — иначе говоря, то, что в народе называют сельской общиной или «соборностью».
Тяжелейшая зима 1923 года. Мама уже начала ходить и вместе с Марфой приводить нас в чувство. Старший брат Юра совсем плох. У него осложнение на уши и он постоянно стонет и плачет. Его шея стала настолько тонкой, что не в силах удерживать голову. Ещё хуже с отцом. Он мечется в жару — вскакивает с кровати, начиная метаться в бреду по большой нашей горнице, пока мама и Марфа не уложат его в кровать и не дадут испить отвар, приготовленный Марфой по её рецепту. Полугодовалая сестрёнка Лялька пищит в люльке, а я и моя старшая сестрёнка Галя, как кутята, начинаем возню на огромном широком сундуке. Болезнь отступает, и мы начинаем ползать по половицам, а затем и учиться заново ходить, держась за стенки и большую голландскую печь, отапливаемую гречневой лузгой. Вероятно, с этих дней зародилась во мне любовь, если не обожание, к моей милой как ангелочек сестрёнке, которая согревала моё сердце во все последующие времена, вплоть до её безвременной кончины.
Весна и лето 1924 года вывели нас из состояния коллапса. Отступили болезни, отступил и голод, хотя и приходилось ещё долгие дни, до нового урожая, есть тюрю с хреном и квасом и разговляться на Пасху крашеным яичком и гречневыми блинами. К этому же времени нэп набирал силу: ожила торговля, и сельские купцы Васины, Косолаповы и Карауловы пооткрывали свои лавки, всё более наполняя их всякой снедью и товарами. Жизнь села заметно преображалась и, казалось, возвращалась вспять, к былым временам и порядкам. Возобновились сельские базары и праздничные гуляния. В село наезжал табор цыган и разбивал свои шатры на площади перед нашим домом. Цыгане с цыганятами то и дело ломились в наш дом, и когда их впускали в нашу просторную кухню, они устраивали целое представление: пели, плясали, гадали на картах и по руке, а цыганята тем временем залезали во все щели.
По селу пошёл слух: «цыгане грабят нашего попа»… Тогда к нам сбежались мужики и бабы с вилами и топорами, чтобы нас выручить из беды. Чтобы не вышло побоища, отец и мать вышли на крыльцо и утихомирили толпу: ничего, мол, плохого не происходит; пожаловали к нам гости любезные — вот они перед вами. Вслед за этим цыгане высыпали наружу и, обратясь к церкви, стали креститься, а затем всей гурьбой, приплясывая и подпевая, направились к своему табору. Мужики и бабы молча расступились перед ними. Цыган без нужды бить не полагалось, но зато до смерти побивали пойманных конокрадов. После исчезновения табора мы ещё долго грезили цыганами; устраивали целые спектакли, наряжаясь в них, и пели цыганские песни.
К этому времени в селе установилась своя, довольно крутая и энергичная «советская власть» во главе с сельсоветом. В связи с этим классовая борьба приняла более острый характер. Образовались два лагеря: один — вокруг партячейки сельских коммунистов; другой — вокруг сельских промысловиков и торгашей, привлёкших на свою сторону всю здешнюю и расхожую анархию и матёрых уголовников, которые в свою очередь объединялись в шайки и банды. Их главарями являлись носители жутких кличек: Кудим, Кешкет, Каланер, Мурыня. Между этими главарями и их шайками затевались постоянные разборки и потасовки, но как только в селе появлялся чоновский отряд из райцентра — шайки исчезали и укрывались в балках и оврагах нашей лесостепной зоны, между городами Арсеньевым, Одоевым и Белёвым, где развелось множество волков. Таким образом, повстанческое движение, подобное «антоновщине», могло охватить и тульские земли, однако этого не случилось ввиду нэповской политики, проводимой большевиками, возродившей торговлю и кулацкое хозяйство. Крестьяне поверили в возможность «нового передела» земель и угодий по количеству едоков. В эти дни происходило выделение земельных наделов беднякам и середнякам из обобществленных (при изъятии помещичьих и кулацких земель) земельных фондов. Разгорались битвы на межах: кому больше, кому меньше, кому лучшая земля, кому худшая, — и на очередь вставал всё тот же проклятый «аграрный вопрос».
Из событий того же времени запомнилась новая кампания — по борьбе с эпидемиями туберкулёза, сифилиса, чесотки, трахомы и прочих ужасных болезней, поразивших огромные регионы России. В село нагрянула специализированная комиссия из врачей, фельдшеров и санитаров. Отдельные группы врачей обходили избы и на месте обследовали всех поголовно, и старых и малых. И тут заварилась большая кутерьма. Крестьянские избы приходилось брать чуть ли не приступом, загоняя сопротивляющихся в углы. Из этих домов доносились крики и вопли: «Ратуйте, спасите, люди православные!» Иные мужики хватались за топоры, а бабы махали ухватами и скалками. О том, как происходил осмотр, со всеми подробностями рассказала нам бабка Марфа.
Дошла очередь и до нас. Было страшно, когда врачиха велела открыть рот, сказать «а-а-а», а затем надавила деревянной дощечкой на язык. Ничего страшного! Отец и мать переговаривались с врачами как старые знакомые и о чём-то весело болтали. Чуть позже родители угощали врачей чаем.
Между ними завязались добрые отношения, следствием чего стало то, что наша мама с ними ходила по домам, где было особенно трудно с осмотром. Мама умела ладить с людьми, недаром её называли «матушка Ольга».
— Ну что же вы, милые мои, — спокойным голосом увещевала сопротивляющихся матушка Ольга, — для вашей же пользы и вашего здоровья хлопочут эти добрые доктора и наша церковь даёт им своё благословение. Они, с помощью Божьей, помогут вам исцелиться от всякой заразы, вот увидите…
В помещении сельской школы в эти дни расположился настоящий лазарет, куда поместили наиболее опасных больных. Пошли прививки от оспы и дифтерита. Многих людей с «дурными» болезнями отправляли в Одоевскую лечебницу. В эти беспокойные дни ещё более возрос авторитет моих родителей, разделивших заботы и тревоги людей из бедноты. Теперь всё чаще у дома нашего появлялись мужики и бабы с их детьми — за советом, за «лекарствием», за всякой прочей нуждой. Это их влияние на сельчан не всем пришлось по вкусу. На наш дом косо поглядывали и некоторые священники, и те же Васины и Карауловы: «Ишь ты, защитники народные объявились. С коммунистами, видать, заодно.»
Да и по правде говоря, дом моих родителей был открыт для всякого, кто приходил по делу или за помощью. В воскресные и праздничные дни у нас собиралась почти вся сельская интеллигенция — учителя, фельдшера, ветеринар и иные друзья дома. Кроме чая никаких особых пирований не устраивалось. Главным было хоровое пение народных песен и романсов. К этим концертам привлекались и подростки, и дети-дошколята. Отец к этому времени обзавёлся роялем, и моим излюбленным занятием было заползать под этот рояль и часами слушать всё, о чём пелось и говорилось в нашем доме. Зато весь репертуар этих концертов я изучил досконально и часто устраивал для самого себя «сольные» концерты, заучив наизусть тексты всех номеров. Во мне открылся талант певца, ибо я получал истинное наслаждение от исполнения и песен и романсов. А чтобы мне никто не мешал заливаться соловьём, я в летние дни забирался на толстые сучки «бабушкиной» яблони и пока не перепевал весь свой репертуар, не спускался на землю. Вскоре мой голос был кем-то с улицы услышан, и у меня появилась своя публика: жившие по соседству мальчишки и девчонки, а также кое-кто из взрослых. Это придавало мне ещё больший артистизм; я пел самозабвенно, стараясь быть услышанным как можно дальше. И прозвали-таки меня «соловушкой». Солировал я и на домашних концертах, и родители поощряли моё увлечение. Образовался семейный ансамбль, и отец приобщил всех своих ходячих детей к хоровой полифонии. Мы пели не только народные русские и украинские песни, но и современные революционные песни, которые повсеместно распевались на площадях и улицах всех российских сёл и городов, — это и «Смело, товарищи, в ногу.», и «Вихри враждебные…», и «Вставай, проклятьем заклеймённый…», и множество песен Гражданской войны.
В нашей семье молитвам отводилось весьма малое время. Зато культом в семье оставались хоровое и сольное пение, книги и журналы, выписываемые в большом количестве моим отцом, и конечно же, сказки — те, которые рассказывались с большим умением и искусством моими родителями, а также нашей бабкой Марфой, сказительницей, какие мало где есть на свете. Ну кто ещё мог рассказать такую сказку об Иванушке-дурачке — про то, как мать согнала его с печи и сказала: «Пойди-ка ты на люди, у людей отирайся, ума набирайся.»? И пошёл Иванушка на улицу и стал в толпе обтираться об каждого встречного, но за это получил большую выволочку — побили дурака. Пришёл домой и плачет. А мать ему: «Эх ты! Ты бы сказал людям: „Бог помочь!“» Пошёл Ваня опять в люди. Видит — мужик дохлую лошадь обдирает, а Иван ему: «Бог помочь!» Опять ему досталось по шее. А дома ему мать говорит: «А ты бы плюнул и пошёл прочь». Идёт Иван по улице и видит: мужики из общей чашки щи хлебают. Ваня подошёл да и плюнул в чашку. Опять ему всыпали по первое число. А мать ему: «А ты бы сказал тем мужикам: „Приятного вам аппетита!“». Дальше — больше: горит изба, а Иван пляшет; справляют свадьбу, а Иван плачет; несут покойника в гробу, а Иван говорит похоронщикам: «Носить вам — не переносить.» Эту сказку Марфа рассказывала всякий раз по-новому, и мы не уставали её слушать снова и снова. В зимние дни Марфа отогревалась на русской печке у нас на кухне, и мы все, как цыплята, забирались к ней под бока — вот это было для нас истинное удовольствие. Сказки текли — одна за другой, до тех пор, пока нас не одолевал упоительный сон. Однако эти золотые сны всё более и разительнее сменялись днями и ночами тревог, переживания крайнего напряжения, ожидания всяческих напастей неведомо откуда.
Это напряжение росло непрерывно и после смерти Ленина, когда на арену классовых битв вступили новые политические деятели, которым была не по нутру нэповская политика, и, стало быть, ленинская программа становилась тормозом того, что вкладывалось в лозунг: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем.» Ещё недавно народ гадал: за кем идти, то ли за Лениным, то ли за Троцким? О Сталине ещё никто тогда ничего не знал, слыхом не слыхивал. И эта неопределённое^ выливалась в митинговые разноголосицы, во всевозможные иные проявления общественного мнения, самой популярной формой (или средством) выражения которого были частушки, по-скоморошьи острые и язвительные:
Троцкий Ленина спросил:
Чем ты бороду красил?
Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.
Или — на мотив «Яблочка»:
Эх, яблочко, куда котишься?
В ВЧК попадёшь — не воротишься!
Стихия сельской жизни всё более направлялась в русло пропаганды и агитации, противопоставляющих «новое» — «старому», зажиточную часть населения — бедняцкой, что в свою очередь ещё более разжигало их страсти. Кулаков облагали всё большим налогом, ещё не сошла со сцены «продразвёрстка», а бедноту агитировали за «коммуну», за организацию кооператива и коллективизацию всего сельского хозяйства — и за этим стояла «проблема» ликвидации кулацкого, да и середняцкого единоличного хозяйства. На этом фоне события в жизни деревни приобретали провокационный характер, а коммунисты становились ещё более напористыми в разжигании так называемой «классовой борьбы». Эсеры и прочие партии были разогнаны или репрессированы, и появилось понятие (или положение) о «лишенцах», относящее не только кулаков, но и духовенство к слою общества с ограниченными правами. В эту категорию людей попадали все члены их семей на все времена. Отныне и мы — поповское отродье — становились изгоями общества. Положение моего отца становилось критическим. Его постоянно таскали на допросы в Одоевскую ЧК или ГПУ и содержали по нескольку суток в камере местной тюрьмы. При этом условие ставилось одно: либо тебе ссылка на Соловки или в Сибирь и высылка всех остальных членов семьи по разным местам, либо снятие священнического сана. И это ещё считалось наиболее лёгким условием.
Постоянное давление на отца, помимо всего, преследовало цель: подорвать влияние религии на местное население, — самим этим отрешением священника от церкви и привлечением его на свою сторону сделать его проповедником коммунистических идей, выведав от него же самого о его народнических взглядах и убеждениях, а также и о том, что его младший брат стал героем Гражданской войны. Это был Николай Руднев, помощник Ворошилова при обороне Царицына, где он и погиб в декабре 1919 года. В конце 1925 года отца продержали в тюрьме более месяца, и он дал согласие сложить сан.
В помещении сельской школы и произошло это «святотатство» при огромном стечении сельчан и приезжих из округи. Мне не довелось стать свидетелем этого события. Об этом много лет спустя мне рассказывала наша матушка. Для неё это происшествие явилось подлинной трагедией. Она до конца дней оставалась глубоко верующим человеком. Разделённую ею участь нашего отца она воспринимала как насилие над его волей и совестью, считая — и будучи уверена! — что он пошёл на этот отчаянный шаг ради спасения семьи и каждого из своих пятерых детей. Отец держался с достоинством, когда выступал перед народом с речью об отречении, высказав при этом свои взгляды на революцию как на освобождение «труждающиих и обременённых» от угнетения, как на осуществление лучших надежд человечества. Люди слушали его, как и прежде, затаив дыхание. Закончив речь, отец снял крест, а затем подрясник и, низко поклонившись людям, пошёл на выход.
Вставал вопрос: как жить дальше? То ли оставаться в селе, то ли податься в сторону — уехать куда глаза глядят… Для этого потребовались и время и средства; и те два года, которые нам предоставлялись до отъезда из села, были самыми тяжкими для моих родителей, несмотря на то что уважение к ним со стороны подавляющего числа местных жителей оставалось прежним, если ещё не большим. Это во многом объясняется и тем, что за годы революционных бурь и потрясений авторитет и влияние церкви повсеместно упали. Сама религиозность теперь всё более сводилась к обрядове- рию (смешению христианства с язычеством) и принимала бытовой полусектантский характер, а влияние прихода как церковного органа и вовсе было подорвано. Зато усилилось разного рода сектантство, а среди него — баптисты, которые умели разговаривать с народом на простом и общедоступном языке толкования евангельских текстов в их провиденческом смысле. Отец охотно посещал их молитвенные собрания, вступая в диспуты с баптистскими «златоустами», но себя к ним не причислял. Зато он стал выступать с лекциями на естествоведческие темы: о явлениях природы, о планетах и Вселенной, а также о методах ведения сельского хозяйства. Все это, разумеется, с согласия новых властей и коммунистов, что тоже было чревато всякого рода опасностями — его могли уличить в злом умысле или расхождении с партийными установками. Но отец был ещё слишком молод и находился во власти прежних иллюзий о человеческом прогрессе. Его энтузиазм и огромные разносторонние познания покоряли всех. Энергия отца била через край. Он взялся за организацию промыслового кооператива по переработке продуктов земледелия и животноводства, и такой кооператив довольно успешно работал, а когда заработала снова мукомольная установка и мужикам не надо уже было возить зерно на мельницу в уездный центр Арсеньев, дела кооператива пошли совсем неплохо. Но за этим стояло нечто опасное для жизни бывшего священника, у которого нашлось немало врагов.
Эта неприязнь усилилась ещё больше после того, как отец взялся за «культуру села» — создал драмкружок и стал постановщиком пьес, руководил занятиями хора, устраивал коллективные читки книг и газетных статей. Он, сам того не замечая, становился главным пропагандистом партии во всей округе. Это явление в те годы было не единичным, если учесть то, что грамотность населения отставала от прежних времён и тяга к культуре с появлением радио и кино ещё более оживилась.
И «культурная революция» в нашем селе произошла, когда отец выхлопотал в райцентре радиоприёмник с репродуктором. Всё начиналось с установки в центре села у сельсовета высоченной антенной мачты. Собралось немало мужиков, чтобы на толстых пеньковых канатах поднять её «на попа» и закрепить на забитых со всех сторон железных скобах. От неё через белые фаянсовые ролики опускался медный провод к окнам сельсовета. Оставалось ещё несколько дней до того, как должны были привезти из Белёва радиоаппаратуру. Все сельские люди горели нетерпением и посматривали вверх, на колокольню, представляя радио как «чудо», которое прилетит по небу, а иные были в сомнении: «Врут, поди, обманывают тёмный народ…»
Наконец аппаратуру привезли, и отец, уже изучивший инструкции по её установке и эксплуатации, приготовился к первому сеансу радиопрослушивания. Часы передач были ограничены. Дневные падали к полудню, а вечерние начинались около семи и заканчивались около десяти часов. На первое прослушивание собралось почти всё население Монаенок, а в помещении сельсовета помещалось не более ста человек, поэтому чтобы как-то разрядить обстановку и не допустить давки, отец приказал открыть все двери и окна, чтобы люди могли, находясь на улице, услышать эту самую «радиву».
И вот в репродукторе что-то зашипело, замяукало по-кошачьи, а затем послышался довольно зычный голос: «Аллё, аллё! Говорит Москва! Говорит радиостанция имени Коминтерна!» Затем тот же голос объявил «народного комиссара просвещения». Послышался басовитый грассирующий голос наркома. О чем он бубнил — никто усвоить не мог, но то, что это был действительно человеческий голос, — сомнений у большинства слушателей не было, хотя у некоторых ещё оставались:
— Поглядь-ка, Митяй, нет ли кого под столом? Может, он оттуда и брешет заместо Луначарского чёрта, ась?
Но под столом его не оказалось, и все же не верилось, пока не заиграла музыка и не послышался сильный голос певицы, исполнявшей известную многим песню: «Помню, я ещё молодушкой была.» Все затихли и замерли. Чудо состоялось, а вечером обещали передать выступление народного оркестра струнных инструментов имени Андреева. С этого часа началась в нашем селе новая эра, всколыхнувшая и смутившая все её порядки, а моему бедному отцу ни днём ни ночью не стало ни покоя ни отдыха. Приноровившись ко времени радиопередач, народ собирался у нас под окном и доносились до нашего слуха одни и те же выкрики:
— Ляксандра Иваныч! Радиву давай! Радиву! Радиву!
Это наваждение продолжалось до тех пор, пока отец не подготовил себе замену, подучив этому делу Митьку Введенского — сына местного дьячка. И Митька стал «первым парнем на деревне».
Шла весна 1926 года. Пышно цвели яблоневые и грушевые сады. Это было первым цветением фруктового сада, выращенного моим отцом. Его переполняла радость от этого чуда, какая могла быть присуща лишь тому, кто обожал природу и вкладывал в неё всю душу, всё своё умение и искусство, насаждая сады и выращивая цветы. И случилась беда. В одно солнечное утро отец вышел из дому и вошёл в свой сад. То, что он увидел, поразило его ужасом. Все его юные яблони и груши были у корня подрублены — напрочь! — острым топором. Картина загубленного сада поистине была душераздирающая, и это великое горе, подобное утрате своих детей, потрясло моих родителей и оставило горький след на долгие времена. У отца появилась седина, и в эти дни, вероятно, у него возникло твёрдое решение уехать навсегда из Монаенок. Оставаться здесь становилось опасно. Угрозы нашему дому становились ещё более явными, и его враги уже не скрывали своих намерений сжить нас со свету. Мы узнали о том, кто погубил наш сад. Это был Глеб Ушатинский, наезжавший в село из Белёва к своим родителям, жившим с нами по соседству. Он водил компании с местными шайками, грабившими на дорогах мужиков, уводившими их лошадей. Они же устраивали поджоги домов тех, кто противился их домогательствам. И Глеб Ушатинский был наиболее хитрым и изворотливым бандитом и террористом, типа Ставрогина в романе Достоевского «Бесы». Это был высокий, атлетического сложения мужчина лет тридцати, довольно привлекательной наружности, пользовавшийся неизменным успехом у здешних барышень и вдовушек.
Всякое появление на селе Глеба отмечалось тем или иным злоключением или потасовками всякого свойства, о чём становилось известно буквально всем. Ходили слухи о том, что он сотрудничает с чекистами и с милицией, поэтому-де ему позволено действовать в открытую и не стесняться в выборе средств (или образа поведения). Так, он мог появиться в селе в тарантасе или пролётке сидящим в обществе расфуфыренной дамы и всякий раз одетым по-разному: в цилиндре и во фраке, или в клетчатом костюме джентльмена — в гетрах и в кепи на голове. Ему под стать были и его сёстры — девки вольного поведения, то исчезающие, то появляющиеся в селе. В просторном доме Ушатинских устраивались ночные оргии и попойки, и такого рода соседство очень беспокоило моих родителей и досаждало им.
Вражда Ушатинских к нам усугублялась, по-видимому, тем, что их покойный родитель был настоятелем сельского храма, в который после его смерти был назначен мой отец, как бы оттеснивший это «святое семейство» на задний план, а сами эти поповские дети представляли собой то самое «жеребячье отродье», от которого местному населению приходилось туго.
Глеб Ушатинский не уставал напоминать о себе всё более опасными выходками по отношению к нам. Так, ещё зимой минувшего года он обобрал дочиста погреб, где хранились наши припасы и тем самым заставил нашу семью жить впроголодь, так как отец не умел ловчить в добывании средств пропитания; наше положение было плачевным. Выручали же нас те, кто был в дружбе с нашим домом. Уличить Глеба в его причастности к злодеяниям, направленным на кого-либо, не представлялось возможным, так как он умел прятать концы в воду и уходить в небытие, подолгу находясь в отлучке или в бегах после каждого наиболее ощутимого происшествия. Оказывается, ещё в те времена в наших краях свирепствовало вымогательство денег и иных ценностей у торговцев и зажиточных крестьян. Этим как раз и занимался всё это время Глеб Ушатинский, для чего он использовал главарей местных шаек. Они-то регулярно совершали обход взятых ими на заметку домов и, приперев хозяина к стенке, вытягивали у него всю наличность, назначив ему срок очередного платежа. И этих мздоимцев Глеб держал в своих цепких руках, выезжая изредка в наше село, пока не произошло то ужасное событие, которое потрясло всё село и надолго осталось в моей памяти. А произошло следующее — главарь шайки Кешкет был зверски убит в доме Игната Родионова, куда он заявился за взиманием очередной дани.
Игнат Родионов отличался особой домовитостью и трудолюбием. Он своими руками возвёл свой каменный дом под железной крышей, держал коров и двух лошадей, овечье стадо и всякую птицу и помимо домашнего хозяйства имел доходы от производства пеньковых канатов, нанимая сезонных рабочих. Игнат отличался огромной физической силой и умел постоять за себя во всяких сельских потасовках. Его боялись и сторонились, зная его суровый норов, но и зарились на его скопидомство. И вот Кешкет и напоролся на этот кремень. Некоторое время Игнат откупался, но когда откуп стал расти и учащаться — его терпению пришёл конец. Когда Кешкет появился у него в доме и начал шарить по столам и сундукам, предполагая найти припрятанные деньги или золото, тут-то Игнат и нанёс ему удар топором, который он заранее приготовил для этого случая. Череп бандита развалился надвое, но Игнат, озверев, продолжал махать топором и рубить тело убитого на куски. Весь пол и все стены горницы покрылись пятнами крови, остатками мозга. Сын и сноха Игната еле отняли у него топор и с помощью набежавших соседей повязали мужика, находившегося в состоянии умопомешательства. Его колотил припадок, и весь он был с головы до ног обляпан кровью и прочими останками убитого. Сбежалось множество людей со всех четырёх слобод. Все влезали в дом, чтобы увидеть то, что осталось от Кештета. Наша мама видела это своими глазами, и мы трепетали от ужаса, вникая в подробности этого убийства. Спустя некоторое время из райцентра приехала милиция, и Игната увезли в район на телеге почти бесчувственного.
Село шумело ещё много дней по поводу этого события, а к дому Игната продолжали идти со всех сторон люди, и каждый переживал это событие как личное несчастье. Сказывались напряжение и вся острота переживаемого людьми времени, казавшиеся следствием той самой «новой политики», которую проводили власти, поощрявшие утеснение частной собственности под любым соусом разжигания «классовой» розни. Село Монаенки, ставшее родиной всех моих братьев и сестёр, представляло собой наиболее типичное селение, характерное для сердцевины России, для всей При- окской равнины. Оно сочетало в себе черты деревни и посёлка с разного рода ремёслами. Именно таковым оно описано в многотомном этнографическом собрании «Россия» под редакцией академика Семёнова-Тянь-Шанского — как торгово-ремесленное село с расхожим населением. Там же отмечается и такая характеристика его населения, как независимость его нравов и лихость манаенских баб — «мананок», уходивших на заработки в города или работавших на земляных работах. Земледелие здесь носило подсобный характер — сажали и сеяли столько, сколько было надобно для личных нужд. Зато большие площади отводились под коноплю, из которой гнали очень вкусное, темно-зелёное масло, а из пеньки изготовляли на продажу верёвку и канаты, славившиеся по всей России своей прочностью. Заповедность этих мест определялась их соседством с такими известными селениями, как Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, с Оптиной Пустынью, со многими городами и усадьбами, где родились и выросли русские гении Толстой, Тургенев, Тютчев, Бунин, Поленов, Фет, Лесков — и многие другие яркие представители русской культуры. Таким образом, наша семья находилась в эпицентре тех событий, которыми ознаменовался весь ХХ век; мы оказались на обочине дорог, ведущих к Москве и иным большим городам центра России. Поэтому и моя жизнь с самого её начала проходила «на семи ветрах» и сформировала во мне зачатки того, что можно называть «судьбой», со всеми её перипетиями, удачами и неудачами, сформировала моё мироощущение и определённые душевные задатки.
Проходили годы и годы — атавизмы моего детства давали о себе знать постоянно и складывались в образное мышление со всеми оттенками и признаками русского характера, многие из которых мне самому не очень нравились, а порой и сильно мне вредили.
Зима 1926 года накатила на нашу семью ещё более ужасные напасти. Отец довольно часто отлучался из дома по делам своей кооперации, и мы (наша мама и трое её детей) оставались подолгу одни, испытывая страх от всего того, что творилось в селе под покровом зимних ночей. В это время на него наводила страх банда Кудима, которая заявлялась в село только ночью, поэтому тем мужикам, которым грозила опасность, приходилось караулить свои дома, вооружившись чем попало, до наступления рассвета. Незадолго до этого времени Кудим убил собственную мать за то, что она выдала место его лежбища в одном из овинов села, когда милиционеры нагрянули к ней в дом и сумели вытрясти из неё эту тайну. Кудима схватили и повезли в Одоевскую тюрьму на санях. Его сопровождали двое вооружённых милиционеров. По дороге Кудим, обладавший огромной физической силой, сумел освободиться от пут и без особого труда обезоружить милиционеров, оставив их в чистом поле, а сам скрылся, угнав лошадь, и затаился в своём новом убежище.
И вот в одну из самых ненастных ночей, когда за окнами по-волчьи выла метель, мы услыхали громкий стук у наших дверей. Наша мама подумала, что это отец возвратился домой; бросилась в сени к наружной двери и услыхала на вопрос: «Кто там?» — хриплый бас:
— Открывай! Это я — Кудим! Открывай, говорю, да не боись — я тебе дров привёз.
— Каких таких дров? — взмолилась мама. — Не надо нам никаких дров…
— Да я их ужо свалил. А ты дай мне деньжат сколько можешь, а я опосля верну. Я твоего мужа не обижу и вас не трону. Давай открывай, Ольга Иванна!
И мама, вся дрожа от охватившего её ужаса, сняв щеколду, открыла дверь и стала пятиться на кухню, где находись мы, трое её детей, как овцы, сбившись в кучку.
И тут в нашу кухню, слабо освещённую керосиновой лампой, вместе с клубами морозного пара ввалилась огромная фигура бородатого мужика, которого мы впервые увидели наяву. Он дико озирался по сторонам и, приметив икону в углу кухни, дважды перекрестился на неё.
— Что испужались? — гаркнул он, взглянув на нас, прятавшихся за мамину юбку. — Да не пужайтесь, не трону. А ты, матушка, повороши в сундуках — нет ли чего припасено в них. Мне много не надоть…
— Ну да, ну да, — засуетилась мама, — я сейчас.
Она кинулась к полкам в угол, оставив нас стоять перед этим страшилищем. И тут произошло нечто невероятное и ужасное — наша трёхлетняя сестрёнка Лялька, менее всех нас потрясённая ужасом происходящего, вынула свой пальчик изо рта и довольно громко выпалила:
— Ты Кудим? Да? Ты бандит? Да?
Наступила мёртвая пауза, и мы в ужасе уставились на Кудима. А он был ошарашен этой выходкой нашей Ляльки, но его рожу вдруг озарила улыбка и он рявкнул:
— Ах ты сукина дочь! Видать, бедовая! Ну, ништо.
У мамы отлегло от сердца. Она протянула бандиту деньги, завёрнутые в бумагу, все, какие у неё были. Сказала:
— Здесь всё. Больше у меня ничего нет.
Кудим запихнул свёрток с деньгами за пазуху полушубка и, поклоняясь в угол, ушёл прочь. А когда дверь с шумом затворилась, наша мама повалилась на пол, ей отказали ноги, и мы общими потугами доволокли её до лавки. Она ещё некоторое время приходила в себя и, опомнившись, бросилась к сеням, чтобы запереть двери на все щеколды.
О том, что с нами произошло в ту ночь, мама никому не сказала ни слова. Это её качество — держать язык за зубами — свидетельствовало о её крепком самообладании и силе воли, которые ей немало помогали во всей последующей жизни, в великих испытаниях и злоключениях всей нашей семьи. Отец, узнавший об этом случае, был удручён и озабочен не менее нас. И это милостивое ограбление нашего дома он воспринял как предвестие новых набегов Кудима, хотя и его озадачило то, что бандит рассчитался с ним дровами, которые нам очень пригодились. Однако опасения отца несколько ослабли после того, как Кудим был снова пойман и застрелен охранниками при попытке очередного бегства из-под стражи.
Решение об отъезде из села всё более волновало наших родителей, и уже в начале 1927 года оно окончательно определилось подготовкой к нашему «великому» переселению на новые земли, для чего нужны были немалые средства. Главная ставка делалась на продажу дома и всего нашего имущества. Вскоре нашелся и их покупатель. Им стал вновь назначенный на должность протоиерея священник — чудаковатый и донельзя странный субъект, весь прокуренный махоркой, с нечёсаной гривой рыжих волос, похожий на одного из репинских бурлаков в его картине «Бурлаки на Волге». Мы так его и стали прозывать — «Бурлак Лахматурин». Торги были долгими и нудными. Бурлак Лахматурин торговался за каждый стул или сундук, и наконец сговорились на пятистах рублях — по тем временам приличных деньгах для обеспечения переезда и содержания семьи на весьма ограниченное время. Нас буквально обобрали, и наш отъезд походил на бегство. Но делать было нечего. Старшие дети подрастали, а в селе была лишь начальная школа, и вот уже два года как Юрий и Галина продолжали учебу в Белёвской школе- семилетке. Наш отец устроил их на содержание у настоятеля собора, своего дальнего родственника Руднева Ивана Ивановича, добрейшего и скромнейшего подвижника своего священнического долга. Он напомнил мне впоследствии того самого епископа из «Отверженных» Виктора Гюго, наставившего на путь истинный Жана Вальжана — бывшего каторжника, последующая жизнь которого была подвигом служения добру и спасения душ человеческих.
Мне довелось дважды побывать в доме этого пастыря, куда меня привозил на поезде отец. Само же это первое моё свидание с чудом, называемым «паровоз», было потрясающим. Мы добирались до станции Мона- енки, которая располагалась в семи верстах от нашего села, лошадьми и здесь ожидали прибытия поезда, идущего на Белёв. И вот, словно малый жеребчик, я был охвачен волнением, граничащим со страхом и нетерпением, и когда гремящая громада паровоза наезжала на меня с пронзительным гулом своего гудка, я был в шоке и бился в руках моего отца, пытаясь вырваться и бежать туда, откуда меня привезли на эту ужасную станцию. Отец занёс меня на руках в вагон и усадил к окну на широкую скамью. Поезд тронулся после того, как прогремел колокол, висевший на платформе станции, и я, почувствовавший магическую власть движения, успокоился и всецело предался этому сладостному ощущению своего полёта в неведомое, не отрывая глаз от окна. Отец с восторгом наблюдал за моими переживаниями и сам становился ребёнком, разглядывая то, что мы видели оба за окном летящего поезда. Нашему взору открывались всё более захватывающие панорамы нашего тульского края. Виды широких равнин, полей и лугов сменялись косогорами и буераками, между которых бежали речки, сверкали зеркальные чаши озёр. Это и было нашей среднерусской лесостепью, нашим русским Барбизоном, которым питалось творчество многих русских поэтов, писателей, художников и музыкантов. И как бы мог быть счастлив человек, если бы умел ценить и беречь эти земли и эту природу, которыми он обладал…
Поезд громыхал по мосту через Оку. Так вот она какая — наша великая Ока, которая, петляя на своём пути по бескрайним русским равнинам, сливается у Нижнего со своей сестрой Волгой, и ещё неизвестно, кто из них чей приток. «Широка река как Ока», — говаривают туляки на своём «акающем» наречии. Акают и московские, и калужские, и рязанские люди, в то время как «окают» жители Ивановской, Костромской и Вологодской областей. Много лет спустя я обнаружил для себя и «икающих» в Поиль- менье, в сёлах Волховского района, где мне довелось услыхать, как бабка, открыв окошко, окликала своих девок:
— Ива, дивки, корива бигаит по изгороди!
Итак, мы в Белёве. Он стоит на высоком берегу Оки, утопая в садах. В те времена он славился своими яблочными торгами. Здесь варились многие пуды яблочного повидла, и у меня о нём сложилось впечатление как о городе-саде, о городе купеческих хором и теремов, а история у него преудивительная. В течение пяти веков этот город, стоявший на границе Слободской Украины, подвергался бесчисленным нападениям татар и литовцев и находился то во владении Орды, то во власти литовских князей, и только при Иване Грозном обрёл статус российского города. Для меня же это было началом моего великого хождения по России, которую на протяжении многих десятилетий я исколесил до самых её границ и берегов Тихого океана. Вероятно, с этой поры во мне зародился бродяжий дух и страсть к перемене мест, а когда я достиг Индии и берегов Индийского океана, я ощутил то, что ощущал, как мне казалось, Афанасий Никитин, отплывший из Твери в своё долгое путешествие «за три моря». Однако эти мои «хождения» не только были более длительными, но и охватывали более обширные пространства земного шара, поэтому всё, о чем я намерен рассказывать в своих автобиографических писаниях, будет посвящено важнейшим событиям моего столетия, преломляемым через призму моего субъективного восприятия.
Можно только удивляться тому, какими удивительными людьми были мои родители, когда им обоим было под тридцать и они сохраняли свою интеллигентность и самообладание в обстановке дикого хаоса, смятения, ломки прежних устоев; удивляться тому, как они не теряли интереса к жизни и своих романтических взглядов. Занятые сверх головы делами и заботами о своей большой семье, они находили время для чтения книг и журналов, для занятий музыкой и рукоделием. У них на всё хватало времени, и мы, их дети, безо всякого принуждения были постоянно у них под руками, включаясь во все их домашние дела, превращая их в свои игры. В свои пять лет я уже довольно бегло читал и перечитывал многое из того, что было ещё недоступно моему пониманию. Отец и мать приохотили нас заучивать на память стихи, и мы могли часами поочерёдно декламировать и сказки Пушкина, и стихи Некрасова, Тютчева и Майкова, а также зарубежных поэтов.
По воскресным дням у нас собирались друзья нашего дома: учителя Журавлёвы и Маторины, фельдшер Павел Степанович Ефремов и другие любители хорового пения. После чаепития с пирогами обычно устраивался большой концерт, включавший и наши выступления. С той поры в мою память навсегда запала уйма всякого рода песен, арий и романсов — всего не перечислить. Распевались романсы Глинки и Чайковского, Бородина и Даргомыжского, Булахова и Гурилёва… Они сопровождались аккомпанементом и рояля, и струнных инструментов. Меня до слёз трогали такие молитвенные вещи, как: «Слети к нам, тихий вечер.», — или «Утро туманное, утро седое.», «Выхожу один я на дорогу.», «Слушайте, если хотите.» и многое другое. Особо сильное впечатление на меня производила музыка Шуберта. Его «Серенада» всегда звучала как «лебединая песня», как призыв любящего сердца, в который вкладывалась «вся тоска любви». Этот романс и его слова навсегда остались для меня заповедными и пробуждают ностальгию по тем временам, когда жили мои родители, когда их большая любовь спасала нас от духовного вырождения.
Жизнь нашего села мне представлялась театром, на сцене которого разыгрывались представления — трагические и комедийные. Все их действующие лица представляли собой ярчайшие образы и запали в мою память на все последующие времена. При этом любой день был перенасыщен событиями, и молва о каждом из них текла рекой от дома к дому, поэтому достаточно было одного лишь слова, сказанного по секрету какой-либо из здешних баб, как об этом через полчаса узнавало всё село. Да и само село всеми его четырьмя слободами было обращено к центру, к слободе, называемой Поповкой, к обширной поляне перед церковью и нашим большим одноэтажным домом с восемью окнами по фасаду. Сюда по любому поводу собирался народ: и на сходки, и на разборки между семействами, и на шумные праздничные гульбища. Жизнь этого театра не прекращалась ни на час. Сменялись лишь его декорации — зимние, весенние, летние. Зимние потехи перемещались к высокому бугру, опускающемуся к большаку, где устраивались катания на лубяных плетёных кошёлках, обмазанных коровьим навозом, на самодельных салазках или деревянных скамейках, на которые садились верхом и, подобрав ноги, неслись с горы, поднимая снежный вихрь.
На масленицу село гудело как улей, и наша поляна переполнялась молодьбой — парнями и девками в нарядах и уборах на загляденье: зипунах, панёвах, белотканных юбках или портках, в лаптях лыковых или в яловых сапогах и сапожках, в картузах и в кокошниках, расшитых бисером и узорочьем. Всё гуляние начиналось по-доброму — хороводами и переплясами. Затем появлялись «офени» со своими угощениями и подарками, с подносами, на которых выносились блины. Блинные угощения принимали озорной характер: парень или девка норовили приляпать блин к роже какого-либо встречного и поперечного. Начиналась снеговая возня и потасовка — один ловил другого и валил в снег, стараясь снегом натереть ему щёки. Затевались драки, из носов текла кровь…
Ещё более разгульными и буйными были пасхальные гульбища. В канун Пасхи посреди поляны устраивались высоченные качели из прочных бревён и жердей. К толстым канатам крепилась каретка на две персоны седоков. Эта каретка раскачивалась двумя лихими парнями с помощью верёвки. Они становились по обе стороны качелей и, накидывая верёвку поверх канатов, подбрасывали каретку до самого верха качелей. Здесь не обходилось без падений и увечий. А вокруг качелей также водились хороводы и затевались перепевы. Повсюду катали яйца: чьё крепче, — ударяя их либо острым, либо тупым концом. У иных ловкачей собирались целые кошёлки яиц. Эти пускали в ход деревянные подделки, трудно отличимые от настоящих.
Иногда на Пасху устраивалось и такое жуткое представление, как опускание на канате с верхушки церковной колокольни. Испытывалась ловкость и сила канатодельца, а также и прочность каната. Помнится, как крепко сбитый Василий Колосков, обвязав канат вокруг колокольного блока и выбросив его конец вдоль стены, начал опускаться по канату вниз, перебирая руками его утолщения. Толпа следила за его действиями, затаив дыхание, и вот, когда до земли оставалось метров десять, канат выскользнул из рук Василия — и тот рухнул на землю и долго оставался бездыханным, пока его не привели в чувство.
Кулачные бои к этому времени не устраивались, но вместо них происходили стычки между партиями парней и мужиков на мосту над речкой Истицей. Эти состязания сопровождались перебрасыванием через перила моста противника, который, упав на ещё не сошедший лёд или в полынью, старался самостоятельно выбраться на берег, а иначе считался проигравшим и должен был звать на помощь.
Лето 1927 года потрясло всех бедствием, страшнее которого никому доселе не приходилось испытывать. Стояла страшная жара. И вот однажды в полдень разразилась гроза. Молнии сверкали беспрерывно, и гром сотрясал округу. Потоки дождя обрушивались на дома и закрыли их сплошной пеленой. Вся наша семья в это время собралась на кухне за обеденным столом. Мы с ужасом наблюдали за тем, что творилось за окнами, содрогаясь при каждом раскате грома и зажимая ладонями уши. Отец метался вдоль окон и старался успокоить нас, обещая скорое окончание грозы. И вдруг окна нашего дома озарились розовым, а затем алым светом, а когда пелена дождя начала спадать, мы увидели перед собой море огня — горела Лютюнь, слобода, находящаяся на другом берегу Истицы. Она стояла на пологом скате и всегда открывалась из окон нашему взору. И вот теперь она была охвачена сплошным огнём. Избы Лютюни, бревенчатые или саманные, горели как стога соломы, и когда гроза ушла, она выгорела почти дотла. Люди бежали к реке, чтобы спасти кого можно было спасти. Мы тоже высыпали наружу. Пожар длился до вечера и то, что творилось в нашем селе, было невозможно объяснить и понять. Это было то самое горе, та беда, которая была многие столетия бичом русских деревень и городов. Среди нищенствующих подавляющее большинство составляли погорельцы, и они постоянно проходили нашим селом, а теперь в одночасье, выгорела целая слобода, где жили ремесленники: валяльщики валенок, бондари и горшечники, — и те из них, кто спасся, становились нищими и бездомными. Всей глубины этого горестного события я в те годы, естественно, не мог постичь, но его горький осадок в душе остался навсегда. Тридцать лет спустя, когда мне довелось побывать в родном селе, я с трудом узнавал то, что было когда-то в нём, или то, что осталось от него. От большого села в триста или более домов осталось не более пятидесяти, которые окружали церковь и поляну возле бывшего нашего дома; на месте его был построен скотный двор. Исчезли и слободки и сады, а на месте Лютюни зеленела дикая поросль и бурьяны.
Я оказался единственным членом своего семейства, посетившим Мона- енки после стольких лет с того дня, как мы покинули его навсегда в мае 1928 года. В село я прибыл ночью и нашёл приют у председателя сельсовета Николая Васильевича Новосёлова. И вот после завтрака мы отправились осматривать село. При этом рассказывал и показывал не Николай Васильевич, а я, удивляя его знанием того, где что было и стояло. Обойдя село, мы подошли к церкви, и я с душевным трепетом вошёл в неё через узнаваемую массивную дверь, когда-то запираемую на железные, массивные засовы и замки. Теперь внутри неё было зернохранилище, а также содержался кое- какой инвентарь. Я подошёл к амвону и заглянул в алтарь. Там было пусто и сумрачно. Алтарные иконы исчезли. Я вспомнил: их заново переписал маслом мой отец, изобразив Божью Мать с Младенцем по-своему, и моделью ему послужила жительница Монаенок Матрёна. Когда же я повернулся лицом к церковному нефу, то увидел нечто поразившее меня — это были росписи боковых опор, у которых находились клиросы или хоры. Эти росписи врезались в мою память с тех самых давних лет моего детства, и теперь я смотрел на них с чувством, будто видел их ещё вчера. Расписывал их также мой отец. Это были копии с васнецовских князя Владимира и княгини Ольги. Случайно ли им здесь были помещены святые, имена которых принадлежали моей матери и мне? Предполагаю, что они расписывались в год моего рождения. Церковь носила имя святого Георгия и была возведена местным купечеством в конце XIX столетия, в честь победы над турками в войне 1878 года.
Я покидал эту церковь с горечью утраты. В этой церкви крестили меня, моих братьев и сестёр, здесь мой отец исповедовал селян и отпускал им грехи, и вот эта магистраль народной — и моей! — жизни разорвана и порушена.
Узнал я и нашу старую деревянную школу, похожую на длинный барак. Когда-то она была создана как сельская приходская школа при этой же церкви… Всё оставалось таким же, как и сорок лет тому назад: и стены, и двери, и окна… И тут мне вспомнилось моя злосчастная учёба в ней. Я проучился в первом классе не более двух недель. Помню большое помещение с окнами по обе его стороны, с деревянными, низкими столами и скамейками. Между ними был широкий проход, разделявший учащихся на классы — первый и третий, а во второй смене — на второй и четвёртый. Классные доски располагались на противоположных стенах, и учительница преподавала урок одновременно двум классам, переходя то к одной доске, то к другой, давая попеременно задания обоим классам.
Со мною же приключился обидный и досадный казус. Придя в школу, я уже умел читать и считать, поэтому долгое и нудное времяпровождение за написанием крестиков и ноликов мне вскоре надоело, и я принялся искать способ переселения на скамейки третьего класса, что было бы разрешением конфликтной ситуации. Однако моя свирепая, долговязая и сутулая учительница водворяла меня на прежнее место, награждая увесистой затрещиной, и тогда в один из дней произошло моё первое в жизни исключение из школы за плохое поведение. Это случилось после того, как я разрисовал свою тетрадь для чистописания, изобразив лошадей, коров и собак, а также дома с трубами, из которых валил дым, и речку с купающимися ребятами. Это моё вдохновенное занятие сразу же привлекло внимание всего класса. Заметив неладное, учительница приблизилась ко мне и, увидев мои шедевры, схватила меня за шкирку и как щенка вытолкнула за дверь, сказав:
— Больше не приходи в школу никогда!..
К моему удивлению, мама ничуть не огорчилась, предполагая, по-видимому, наш переезд на новое место жительства. Как бы там ни было, моё дальнейшее обучение с этой поры было прерывистым и нескончаемым. Так, в первый же класс городской школы я поступил, когда мне исполнилось девять лет, а семилетку закончил в шестнадцать лет, пропустив ещё один год учёбы. С этим делом я постоянно опаздывал и в этом походил на недоросля. Однако моё самообучение намного опережало школьное в предметах, для меня предпочтительных. Я был «гуманитаром». История, география, литература были моими любимыми предметами. В десять лет я был начитан сверх меры, проглатывая не только книги о приключениях и путешествиях, но и классиков — русских и зарубежных, а также и журналы, выписываемые родителями. Поэтому и в дальнейшем я продолжал своё чтение книг на уроках, пряча их от глаз учителей.
Прежде чем расстаться со своими «пенатами», я встретился на улице со сверстником моего старшего брата Петром Косолаповым. Оказалось — он помнил всех и даже угадал во мне того, кого прозывали Володькой. Он был взволнован и обрадован встречей со мной и сожалел о том, что нам не удалось обо всём поговорить, так как мне предстояло тем же утром уехать из села на попутной машине, доставившей меня в Тулу. Прощаясь с Петром, я невольно подумал о том, что этот пожилой мужчина всю свою жизнь прожил в своём селе и останется в нём до последних дней, не обнаруживая недовольства своей судьбой…
Я уезжал из Монаенок с тяжёлым сердцем, осознавая, что никогда более не возвращусь сюда, и сожалея о том, что не удалось задержаться в селе хотя бы ещё на одни сутки. К дому Новосёловых подкатила грузовая машина, и когда я собирался забраться в кабину, увидел ковыляющего в нашу сторону старика, подававшего мне какие-то знаки.
— Так ты и есть Александра Иваныча сынок? — спросил он меня, схватив за руку. — Вот оно што! И уезжаешь? Пошто так скоро?
— Спешу, отец. Я ведь проездом, — отвечал ему я, — а тебя-то как звать?
— Макеев я, Тимофея Филиппова сын я. С твоим-то батюшкой я близко знался, по приходу его в бричке возил. Так вот. И скажу тебе на прощанье: отец-то твой был народник. Большой человек! Жив ли он?
— Нет, нет его в живых, дедушка, погиб в сорок первом.
— Ахти, господи! Царство ему небесное и вечная память.
Я обнял плачущего старика и расцеловал трижды, ринулся в машину, и когда она выезжала на большак, увидел мужиков и баб, машущих мне руками. Значит, и они прослышали о моём появлении в Монаенках. И до чего же крепка память у российских крестьян! Не то что у горожан, среди которых мало кто о тебе что знает или помнит сколь-нибудь долго о тебе или ближних твоих.
Весна 1928 года была дружной и солнечной. Уже в апреле зазеленели сады и приготовились цвести, а в нашем доме шли приготовления к отъезду. Уже были отправлены на станцию кое-какая мебель и утварь для отправки к месту нашего жительства товарным поездом. Мы не узнавали родного дома. Пустые комнаты казались просторными и печальными в своей бесприютности. Мы слонялись по ним как неприкаянные, ещё не представляя себе, что покидаем свой дом, ставший теперь чужим, навсегда. У нашей мамы не просыхали от слёз глаза, а папа метался по селу, завершая какие-то свои переговоры и дела.
Все эти дни нас не покидала Марфа Фетисова, утешала маму и ласково покрикивала на нашу ребятню, носившуюся сломя голову по всему дому. Мои родители звали Марфу уехать из села вместе с нами, чтобы уже не расставаться. У неё же созрело решение сопровождать нас лишь до Тулы, чтобы остаться там у своей дочери. Но мама обещала не забывать нашу Марфу и надеялась свидеться с ней, как только мы устроимся на новом месте.
Наш отъезд переполошил всё село. Возле дома собирались кучки людей. Бабы причитали как на похоронах, а мужики всем своим поведением выражали нам сочувствие. Всё это ещё более волновало моих родителей, и само это расположение стольких людей к ним создавало тягостное ощущение расставания с близкими на вечные времена. По ночам к нашему дому слетались совы. Их жуткий протяжный крик, похожий на плач младенца, не давал нам подолгу забыться сном. Это наваждение отец объяснил тем, что, переворошив весь дом и сараи, мы растревожили мышей — и совы слетались к нам, чтобы поживиться ими. Однако тревога ожидания усиливалась ночными стуками, хрипами и скрипами. Кто-то ходил по потолку, гремел железом на крыше и хлопал дверьми. Накануне отъезда из села к дому подкатили телеги со скарбом попа Лахматурина. Новый хозяин ходил по дому и окуривал его клубами дыма своих цигарок. Ему не терпелось поскорее выдворить нас из дому и приступить к своим делам. По всему было видно, что новый сельский батюшка не приглянулся селянам, а это было немаловажным обстоятельством для его будущего как духовного пастыря своего христианского стада.

И вот настало то самое утро, когда отпали все сомнения и ожидания непредвиденных бед. К дому поданы были две подводы — большегрузные телеги, в которые погрузилась поклажа — корзины и мешки, и когда с этим было покончено, отец поставил всё своё семейство лицом к дому и совершил молебен, обратив взор к небу. Затем, низко поклонившись своему бывшему дому, мы последовали за лошадьми и телегами к воротам (или загородям) и высыпали на улицу, где нас уже ожидала толпа людей. Такого прощания с местом своего обитания мне не довелось увидеть более никогда во все времена своей жизни. Такое можно сравнить разве что с проводами новобранцев на войну, и я безо всяких преувеличений могу свидетельствовать лишь о том, что наш отъезд оплакивало множество сельских жителей. В этот час как бы выплеснулось наружу всё то, что накопилось доброго и светлого в их сердцах по отношению к моему отцу и моей матери. Их обнимали, целовали и осеняли крестным знамением. Плакали все, когда мы разместились на телегах и они тронулись в путь-дорогу. Толпа долго провожала нас, пока мы не выбрались на большак и не покатились в сторону станции Арсеньевской, и высокая колокольня нашей церкви не скрылась за крутыми увалами, поросшими зеленеющими чащами лесов…
Владимир Руднев. В начале двадцатого века. Фрагмент автобиографического очерка. //«РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 6, страницы 155-178
Скачать статью
Примечания
- Теория официальной народности была провозглашена в предшествующую эпоху — Николая I. Движение народничества (особенно либерального и революционного крыла) противополагало себя этим принципам, хотя и во многом восходило к ним. — Примеч. ред.
- Во времена, о которых идёт речь, данный исторический регион Центральной Азии именовался Туркестаном. Современное название государства — Туркменистан. — Примеч. ред.
- В настоящее время — село Манаенки Арсеньевского района Тульской области. До 1924 года (время образования Арсеньевского района) село входило в состав Белёвского уезда Тульской губернии, было волостным центром. Название писалось через «о»: Монаенки. — Примеч. ред.
- Базовый священник — имеется в виду должность священника военно-морской базы в Порт- Артуре. — Примеч. ред.


