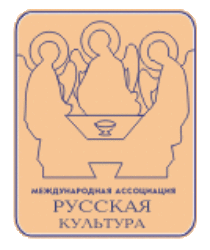Поделиться "Алексей Малинов. «Славянский мир» или «русский космос»: о нереализованном издательском проекте В. И. Ламанского"
2,047 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
 Алексей Малинов. Философ. Родился в 1969 году в г. Бокситогорске Ленинградской области. В 1996 году закончил философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Академическая философия истории в России (вторая половина XIX — начало XX века)». Профессор кафедры истории русской философии СПбГУ. В 1995-1999 годах участвовал в работе философско-культурологического исследовательского центра «Эйдос», в работе Лаборатории метафизических исследований при философском факультете Санкт- Петербургского государственного университета. Несколько лет (до 2001 года) возглавлял издательство Санкт-Петербургского философского общества.
Алексей Малинов. Философ. Родился в 1969 году в г. Бокситогорске Ленинградской области. В 1996 году закончил философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Академическая философия истории в России (вторая половина XIX — начало XX века)». Профессор кафедры истории русской философии СПбГУ. В 1995-1999 годах участвовал в работе философско-культурологического исследовательского центра «Эйдос», в работе Лаборатории метафизических исследований при философском факультете Санкт- Петербургского государственного университета. Несколько лет (до 2001 года) возглавлял издательство Санкт-Петербургского философского общества.
Науки не брошу, родины не разлюблю.
Из письма В. Ламанского М. Устиновичу 8 декабря 1852 г.
В 1895 году крупнейший русский славист, профессор Петербургского университета Владимир Иванович Ламанский (1833-1914) направил министру народного просвещения И. Д. Делянову письмо с просьбой о субсидировании нового журнала «Славянский мир»1. Обосновывая необходимость нового издания, учёный указывал на успехи и достижения отечественного славяноведения, на значение славянской историографии и филологии для лучшего понимания других отраслей историко-филологической науки. Обращаясь к министру, он писал:
«Возникшее в России научное изучение славянства сначала благодаря трудам Востокова и Калайдовича, просвещённому покровительству графа Н. П. Румянцева, настоящего себе преемника не имевшего, а затем основание в министерство С. С. Уварова при русских университетах (1835) кафедр славяноведения, отправка молодых учёных Бодянского, Прейса, Срезневского, Григоровича в славянские земли Австрии и Турции дали поистине блестящие результаты. Благодаря учёным трудам и преподавательской деятельности этих почтенных насадителей славяноведения в России наши университеты и частью духовные академии за последние пятьдесят лет дали столько крупных учёных трудов, образовали целую плеяду более или менее видных тружеников: о русской науке стали говорить с уважением в Европе, не многие русские имена получили в ней почётную известность.
Бодро оживив изучение нашего прошлого и настоящего в разнообразных отношениях, успехи славянской филологии в России немало помогли и самостоятельному в ней изучению германской и романской филологии, а занятия русских славянскою историею привели к самостоятельному у нас изучению и лучшему пониманию средневековой и новой европейской истории, преимущественно истории старой Германской империи, восточной Германии, то есть Пруссии и Австрии, Венецианской республики, истории латинства и протестантства в Восточной Европе, истории Византии, Турции, новой Греции.
Успешное развитие славяноведения в России много также содействовало усилению нравственного авторитета и умственного влияния нашего отечества во всех славянских землях, немало помогло распространению среди наших соплеменников на юге и западе — русского языка, русской книги» 2.
Последнее из утверждений Ламанского хорошо характеризует его панславистские идеалы. Оставаясь убеждённым сторонником славянского единства, отстаивая принципы межнационального общения и взаимности, он считал, что сближение славянских народов является следствием роста авторитета русской науки и распространения в славянских землях русского языка. Русский язык, был убеждён Ламанский, должен стать общим дипломатическим, научным и литературным языком для всех славян. В этом кроется мощная геополитическая сила русского языка, способного обеспечить культурное доминирование России как в славянских землях, так и в северной Азии 3. И наконец, славистика, то есть славянская история и филология, понималась Ламанским в качестве необходимого элемента русского национального самосознания. «Вообще России ни её прошлое, ни её настоящее, — писал он далее, — ни, смею думать, её будущее не позволяют отставать от какой-либо европейской страны в исследованиях изучения славянского мира во всех отношениях. Всякая наша остановка в этой научной работе была бы шагом назад для русского самосознания» 4. Поясняя замысел Ламанского, Л. П. Лаптева отмечает: «Задачей слависта было показать, что будущее славян немыслимо без связей с Россией, но что симпатии славян к России будут расти в зависимости от её достижений в области культуры, образования, науки, ввиду чего необходимо развивать отечественное просвещение и повышать престиж России в Европе»5.
Согласно плану Ламанского, журнал должен был выходить четыре раза в год. Русскую литературу, русскую историю, историю русского права предполагалось рассматривать в нём в связи с историей, литературой и правом других славянских народов. Ламанский брал на себя общее редактирование журнала. В редакционный совет он намеревался пригласить А. И. Соболевского и А. А. Шахматова (по славянской филологии), И. Н. Жданова (по литературе), И. С. Пальмова, П. А. Сырку и С. Пташиц- кого (по истории). «Последний больше занимается историей литературы, чем историею, но он нужен нам в качестве поляка», — объяснял свой выбор Ламанский профессору Киевского университета П. А. Кулаковскому 6. Редакционный совет, в свою очередь, должен стать ядром Славянского историко-филологического общества, а книги и журналы, присылаемые в редакцию, покупаемые и жертвуемые издания, должны положить начало формированию университетской славянской библиотеки. В дальнейшем, надеялся учёный, университет ежегодно будет приобретать для библиотеки словари, книги, карты и т. п. 7
В письме П. А. Кулаковскому Ламанский упоминает, что его «обнадёживают» в связи с изданием журнала, он ждёт «обещание» со стороны С. Ю. Витте 8. Однако надеждам учёного не суждено было осуществиться. И. Д. Делянов отказал в субсидировании журнала. В архиве Ламанского сохранился официальный ответ министра:
«28 мая 1895 г.
Милостивый Государь,
Владимир Иванович.
Вследствие ходатайства Вашего Превосходительства о назначении пособия на издание журнала «Славянский мир», я входил в сношение с Министром Финансов, и Тайный Советник Витте ныне уведомил меня, что в виду предъявляемых к Министерству Финансов многочисленных требований подобного рода он не считает возможным согласиться на отпуск из казны просимой Вами суммы в 3500 рублей на изъяснённую надобность.
Сообщая о таком отзыве Министра Финансов, прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности.
Граф Делянов» 9.

Название журнала «Славянский мир» появилось не сразу. В бумагах учёного встречается и такое заглавие, как «Славянский свет», но, вероятно, были и другие варианты. Проект журнала не случайно составился у Ламанского к середине 90-х годов XIX века. В 1890 году, отслужив двадцать пять лет в университете, Ламанский получил звание заслуженного профессора. С этого же времени он начал преподавать славянскую историю и филологию в Академии Генерального штаба, где проработал до 1900 года. В 1890 году вышли и первые номера издаваемого им журнала «Живая старина», который он редактировал до 1910 года. «Живая старина» стал лучшим дореволюционным этнографическим журналом. Работая над изданием безвозмездно и даже тратя первые семь лет собственные средства (первый год — 100 рублей, в последующие — от 30 до 50 рублей), Ламанский старался привлечь к журналу как можно больше подписчиков, чтобы обеспечить стабильный выпуск номеров. В конце концов недостающую сумму дал старший брат Владимира Ивановича Евгений Иванович Ламанский, крупный русский экономист, управляющий Государственным банком в 1866-1881 гг.
К середине 1890-х годов положение журнала укрепилось. С получением пенсии и переходом в заслуженные профессора Ламанский оказался меньше занят в университете, а преподавание в Академии Генерального штаба побудило его полнее представить свои историософские и геополитические взгляды. В 1892 году в Петербурге вышла книга «Три мира Азийско-Европейского материка», в которой Ламанский изложил свою цивилизационную концепцию, разрабатываемую с середины 1860-х годов. Сам учёный считал себя в большей степени историком, чем филологом, а свой трактат относил к области политической географии. Многие положения этой книги были сформулированы ещё в 60-е годы XIX века и вошли в докторскую диссертацию Ламанского «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (1871). Здесь он обосновывал цивилизационную самобытность греко-славянского мира, противопоставляя его другим культурным мирам — собственно Азии и Европе, т. е. романо-германскому миру. В книге 1892 года он говорит уже о греко-славянском мире как «Среднем мире». В более ранних работах называет греко-славянский мир христианским Востоком или «русским космосом». Последнее выражение, заимствованное у английского дипломата Лонгворта, явно пришлось Ламанскому по душе и он его часто употреблял. Когда же в первой половине 90-х годов XIX века цивилизационная концепция Ламанского окончательно сложилась, он и задумал издание нового журнала «Славянский мир», целью которого должно было стать изучение этого «русского космоса», обоснование и пропаганда его культурной самобытности и самостоятельного исторического пути.
Сам Ламанский себя относил к последователям славянофильского учения. Работая над докторской диссертацией, он часто общался с Н. Я. Данилевским 10, печатал свою диссертацию в том же журнале «Заря», где публиковалась «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского, и выпустил её в один год с книгой Н. Я. Данилевского. Действительно, исследование Ламанского обнаруживает некоторые параллели с учением Н. Я. Данилевского. Тем не менее об одностороннем заимствовании здесь едва ли можно говорить. Некоторые положения в концепции Н. Я. Данилевского, вероятно, были сформулированы под влиянием бесед с Ламанским. Однако Ламанского нельзя отнести к рядовым эпигонам славянофильства, он был слишком крупным учёным, чтобы некритично популяризировать славянофильские идеи. К началу 1890-х годов у Ламанского усиливаются сомнения в перспективности панславизма, он конфликтует с националистически настроенными членами Санкт-Петербургского славянского благотворительного комитета. И трактат «Три мира Азийско-Европейского материка» уже заметно выходит за рамки традиционного славянофильства. Он позволяет рассматривать Ламанского в качеств одного из предшественников евразийства 11. Причём влияние на евразийство носило не только книжный, но и до некоторой степени личный характер. Сын Ламанского Владимир, опираясь на концепцию отца, преподавал географию в Политехническом институте в Петербурге одному из будущих теоретиков евразийства — П. Н. Савицкому.
1890 года был во многом переломным в жизни Ламанского. Можно предположить, что первая мысль об издании журнала, посвящённого изучению греко-славянского мира, появилась именно в это время. «Пора обращать публику к серьёзному изучению России», — замечал он 21 октября 1890 года П. А. Кулаковскому 12. Никогда не отделяя Россию от славянского мира, Ламанский полагал, что Россия должна осознать себя именно в качестве славянского государства.
Ещё двадцатилетним студентом он писал в своём дневнике 17 июля 1853 года: «Теперь Россия если не начала, то начнёт скоро проявлять себя, как русское, славянское государство, тогда и народность русская начнёт возвышаться и приобретать значение между европейскими народами» 13. «Надо теперь, — призывал он 20 мая 1853 года, — чтобы русские почувствовали необходимость слиться со славянами не материально, а духовно, чтобы поняли, что в этом слиянии только заключена возможность показать перед лицом Европы наши духовные силы, войти в общую жизнь человечества» 14. Цитируемый дневник содержит первые дошедшие до нас размышления Ламанского о России, её судьбе и освободительной роли русского народа в славянском мире. Дневниковые записи сделаны под впечатлением от известий о начале и последующем ходе Крымской войны. Они ясно показывают, насколько критически относился учёный к существующей в России форме правления, и ставят под сомнение распространённое в исследовательской литературе мнение о Ламанском как об убеждённом монархисте. По крайней мере николаевское самодержавие никогда не вызывало у него симпатий. Русский император «тяготил своим самовластием, разорял казну и сам своими слугами мешал нашему духовному развитию и наконец к довершению всего унизил Россию… Теперь Николаю надо забыть некоторые свои пристрастия, ему надо понять, что Русь сильна верою и народом, а не его нелепым самодержавием, что нам прилепляться в Европе ни к кому не надо, и мазать и ласкать и тех и других, наша судьба прошлая иная, чем Западной Европы, начала тоже другие, для нас одинаково вредно связываться с социалистами республиканцами и с Свящ [енной] Р [имской] импер [ией], и с Лудов [иком] Наполеоном, и с умеренными монархиями. Наша роль в Европе — внести новые начала, их навязать Западу, и воскресить их в племенах славянских, онемеченных и отурченных» 15. Ламанский полагал, что России следует не вмешиваться в европейские конфликты, а, наоборот, заботиться о внутреннем своём развитии: поддерживать свободу слова и науку, развивать торговлю и реформировать административное управление, освободить крестьян. Он ожидает от начавшейся войны пробуждения русского общества и разрешения славянского вопроса в Европе. «Есть возмездие и Немезида в истории, она настала теперь для славян», — провозглашал Ламанский в дневнике (29 июня 1853 года) 16.
В пылу юношеской самоуверенности он мечтает о нанесении удара англичанам в Индии, но тут же трезво замечает, что для этого необходим генерал, подобный А. В. Суворову. Впрочем, неудачи в ходе Крымской войны быстро развеяли эти мечты. Коренная слабость России, убеждён он, скрывается в отсутствии общегражданских свобод, в крепостном рабстве и самодержавном произволе.
Дневниковые записи этого периода наполнены риторическим вопро- шаниями. «Неужели уж все мы, славяне, такое племя — негодное для политического могущества? Неужели кара Божья постигнет нас за гордость Николая, за все его ошибки и чёрные дела? .Запад должен пасть, а не мы. Не то ещё бывало с Русью, а выходила же каждый раз с новыми силами. Николай опомнится, возьмётся за ум (хотя и сильно поздно) и пойдёт наперекор многим своим мечтам. Ещё не умрёт он, а убедится, что неограниченное правление — нелепость, противная разуму, нашей вере, нашей истории, что она может совершенно погубить Россию; он поймёт, что дружба с Австриею, истекающая из того же начала, нам пагубна. Ему ясно представится, что торжество нашего дела принадлежит народному духу, народным силам, а не той пакостной форме, которая Европе кажется главным нашим отличием, которая, продлись ещё дольше, многое могла бы если не истребить, то развратить» 17. Ламанский подчёркивает, что сила России состоит в свободном развитии народного начала. Не гарантированная конституцией индивидуальная свобода, а пробудившееся национальное сознание способно принести России победу. Русские — народ славянский, поэтому рост национального сознания связан с разумением русским народом себя в качестве народа славянского. Но верно и обратное: только в единстве с другими славянами достижима чаемая победа. «Но во всяком случае дерзко и бессмысленно желать нам победы теперь, — писал Ламанский 11 сентября 1853 года, — то есть победы решительной. Надо купить её долгими страданьями, пораженьями и спокойствием духа, полного упованья и надежды на конечное торжество нашего дела. Запад ещё слишком силён, чувствует слишком хорошо, что эта борьба на жизнь или смерть. Тяжёлыми опытами, трудами вековыми приобрёл он то, что теперь имеет. Он не легко своё отдаст. С другой стороны, и цель наша слишком далека, и последствия победы слишком громадны, слишком велики для России, чтобы она могла достичь её, эту цель, в несколько месяцев. Надо, чтобы славяне соединились все вместе, стали бы за одного человека…» 18 И тогда славянский мир «займёт место Запада», а славяне станут «вождями человечества». «Не знаю, может, я ошибаюсь, и жестоко ошибаюсь, — писал он уже 28 сентября 1853 года, — но все мои убеждения коренятся на той вере, что пришёл час славян, что только Россия может восстановить их всех, и что только она, победительница, может обновить мир, вскрыть те начала, которых она жаждет и которые всего менее подозревает в нас Запад».
Однако до сих пор не разрешена главная проблема России — сохраняется крепостная зависимость крестьян. «Будь что будет. Вот торжественная минута для России! Понимает ли она её? Не слишком ли мы окунулись в грязь рабства? Достойны ли мы победы, но, с другой стороны, заслужил ли её и Запад и неужели Николаевский кулак мог так унизить, так уронить нашу матушку Россию? Неужели победа русских над Западом не может совпасть с падением деспотизма и всех зол?» Ламанский обрушивается на крепостное рабство не только исходя из славянофильских убеждений. Дворяне Ламанские никогда не имели крепостных. Ещё дед учёного, будучи дворянином, жил в деревне Ламаниха Вологодской губернии совершенно по-крестьянски, и лишь отец Владимира Ивановича сделал в Петербурге административную карьеру. Сам историк, не имея никаких других источников дохода, зарабатывал на жизнь исключительно литературным и педагогическим трудом, преподавая в университете, Духовной академии и Академии Генерального штаба.
Впрочем, Крымская война вызывала у Ламанского и провиденциалист- ские настроения. Вполне в духе ветхозаветной «теории казней божьих» он рассуждал о том, что цель позорной войны — вызвать раскаяние и покаянные чувства в русском обществе в совершённых мерзостях и пробудить русский народ к новому служению, дать ему новые силы. Сильна Россия должна быть и своими друзьями, то есть единокровными и единоверными народами. Поэтому борьба за освобождение славян для России — это не только исполнение её исторического долга, но и разрешение так называемого «восточного вопроса», под которым Ламанский понимал определение западных границ греко-славянского мира. Сознающая свою силу Россия всегда будет иметь и друзей. «У сильного всегда будут друзья, настолько верные и искренние, поскольку и поколе он силён и силу свою разумеет. Россия должна не плакаться и не думать, что у неё нет друзей, а, напротив того, ежечасно заявлять, что у неё друзей и союзников много, только свистнуть, что каждый-де за честь почтёт стать её другом», — записал Ламанский в дневнике 22 мая 1889 года.
Россия составляет основу Среднего мира, к ней тяготеют все другие славянские и православные народы, живущие вне русского государства. Только опора на Россию даёт этим народам шанс сохранить своё культурное и языковое своеобразие и продлить своё историческое существование. Все они, как бы располагаясь на периферии русского мира, образуют единый русский космос. «Хотя Россия и есть главный и даже единственный самобытный представитель греко-славянского мира, — замечал Ламанский в докторской диссертации, — однако понятие о нём ею одною не исчерпывается, и не в ней одной он заключается. Действительно, в отношениях этнографическом, географическом, историческом, культурном и политическом нынешняя Россия не есть сама по себе строго законченное и округлённое целое». Необходимо присоединение к Российской империи Карпатского региона. «Шестая часть света, Россия, получает почти полный вид особого самобытного материка только с приложением к ней остальной Восточной, Закарпатской и Задунайской, греко-славянской Европы», — обрисовывал свой геополитический проект учёный. Такое объединение вполне оправдывается и взаимным культурным тяготением: «Большая часть греко-славянских земель вне России, в культурном отношении, находится ближе к России, чем к Европе».
Слабость и малочисленность греков и сербо-хорватов также усиливает их нужду в России, но и Россия испытывает потребность в этих народах, что Ламанский иллюстрирует различными историческими примерами. «Россия, — писал он, — связана с этими землями самыми крепкими узами церковными, племенными, всеми своими историческими преданиями и многовековым взаимодействием, обоюдными вещественными и нравственными интересами». Образуя основу Среднего мира, Россия выступает центростремительной силой «русского космоса», в то время как входящее в орбиту русского мира население Восточной и Южной Европы привносит центробежный импульс. «В соответствии географическому характеру края, — замечал исследователь, — и в его населениях, с приближением к югу и юго-западу возрастает и усиливается дух партикуляризма, крайней местной автономии и независимости, во многом благоприятный для развития личной бойкости и энергии, для образования небольших вольных торговых и морских республиканских общин с широким самоуправлением». Всё это позволяет Ламанскому провести аналогию между Средним миром и античной цивилизацией, объединяющим началом в которой выступали римляне, стягивающие греков и другие многочисленные народы в одно культурное пространство. «В этом отношении Россия и малые племена славянские, — развивал свою мысль историк, — представляют всего более аналогии с Древним Римом и Элладою. Россия, как Рим, представляет сильно выработанное начало единства; южные и западные славяне, как эллины, непомерно развитое начало местного и народного разнообразия. Но далее сходство опять исчезает. <…> При всём неравенстве и несходстве положения, южные и западные славяне принадлежат к одному историческому типу с Русью».
Впрочем, существование единой цивилизации возможно только при преобладании центростремительных сил над центробежными. Для грекославянского мира это означает преобладание русского народа над всеми остальными. «Но и в настоящее время, — отмечал Ламанский, — при всём этом пёстром разнообразии племён, в мире греко-славянском всё-таки преобладает общее над частным, начало единства над началом разнообразия. Славянство, именно в лице русского народа, представляет собою громадный крепкий кряж или ствол, а все прочие инородческие племена являются его ветвями. Численно, пространственно и духовно преобладает и господствует Славянство, а в нём и чрез него — народ и язык русский» 19. При отказе русского народа от своей цивилизационной роли рассыплется и весь «русский космос», будет охвачена хаосом вся громадная территория Среднего мира, окраинные земли которого войдут в орбиту других цивилизационных центров.
Специфичность Среднего мира лучше всего опознаётся по контрасту не столько с миром азиатским, сколько с миром западноевропейским или романо-германским. Эти различия Ламанский считает принципиально важными для понимания самого греко-славянского мира. «Деление христианско-арийского мира на восточный и западный, греко-славянский и романо-германский, — писал он, — основано на строгом различении их внутренних, существенных признаков, географических, этнографических, религиозных, общественных, вообще культурных особенностей. Это деление имеет величайшую научную важность» 20. Из указанных отличий (географических, этнографических, религиозных и общественных) Ламанский в докторской диссертации подробнее останавливался на различиях религиозных и этнографических. В поздних работах он больше уделял внимания различиям географическим. «Греко-славяне, — подчёркивал исследователь, — по природе страны, своему этнографическому составу и религиозным началам составляют, по отношению к романо-германцам, совсем особый исторический организм или самобытный мир» 21. Самобытность русского мира, его отличие от мира романо-германского сознают и сами европейцы. «Московию, Московское государство и его жителей, — отмечал Ламанский, — европейцы, можно сказать, никогда не считали своими, европейскими. Мы, русские, и вообще все славяне, особенно же православные, когда последние были политически независимы, всегда казались для романо-германцев чужими» 22. Крайней формой такого отчуждения выступает отождествление европейцами русских с монголами и тюрками. Представление о «туранизме великороссов» учёный считает «галлюцинациями бедного Духинского» — польского историка, писавшего преимущественно по-французски и активно популяризировавшего в Европе мысль о «туранстве московитов». Ламанский последовательно опровергает это представление, доказывая славянский характер русской культуры, хотя и замечает, что не видит оснований для пренебрежительного отношения к тюркским и монгольским народам, а также к естественным и неизбежным процессам метисации племён.
Аналогия между цивилизациями и живыми организмами позволяет Ламанскому проследить различие в возрасте греко-славянской и романогерманской цивилизаций. Он приходит к выводу, что исторический возраст современных ему русских людей соответствует европейцам XIV-XV веков, а немного далее проводит параллель между Россией XIX века и Европой XVI века 23. Молодость русского народа сравнительно с европейцами говорит о том, что именно русскому миру принадлежит будущее, а усиление России — неизбежный результат исторического процесса. «Русский народ и вообще славянский мир призван историею к великой самостоятельной будущности», — провозглашал Ламанский 24.
В докторской диссертации Ламанский лишь касался географических, природно-климатических отличий Среднего мира. Он, в частности, писал: «Горные хребты северного Китая, Тибета и Гиндукуша в средней Азии с большим правом, чем хребет Уральский, могут служить гранью особого материка» 25. Двумя десятилетиями позже учёный отводил географической специфике греко-славянского мира более существенную роль в обосновании его самобытности. Тем не менее надо подчеркнуть, что основополагающими факторами цивилизации, без которых невозможно самобытное развитие, Ламанский продолжал считать политическую независимость и общий научный, литературный и дипломатический язык.
Определяя состав греко-славянского мира, Ламанский писал: «Площадь лежащего между собственно Европою и собственно Азиею так называемого Среднего мира занимает около 24 мил. кв. клм. и включает в себя всю русскую империю (22.622.560), часть прежних польско-литовских земель Пруссии, где ещё сохранилась славянская и литовская народность, часть Силезии, значительную часть Чехии, всю Моравию, южную Стрию, часть Каринтии (Хорутании), всю Крайну, Горицкое графство, Истрию, все Австро-Угорские земли короны Св. Стефана с Триединым королевством, то есть Хорватию, Славонию и Далмацию, Румынское королевство, королевство Сербию, княжество Черногорское, Боснию, Герцеговину, княжество Болгарское (с Румелиею), королевство Греческое с островами, всю европейскую Турцию с включением Константинополя, с остальными греческими островами, со всем приморьем Сирии и Малой Азии и с прилежащими к Кавказскому наместничеству областями азиатской Турции с населением древне-христианским» 26. Как видно, значительной своей частью Средний мир совпадает с Российской империей — точнее, Россия составляет большую часть территории греко-славянского мира. Включение в орбиту Среднего мира части Турции связано с тем, что на этой территории проживает немногочисленное христианское население (семты, сирийцы, арийцы, армяне), исторически связанное с крупнейшими государствами греко-славянского мира (Византией и Московским царством или Российской империей).
На севере, востоке и юге границы Среднего мира фактически совпадают с границами русского государства. По словам Ламанского: «Средний мир имеет вполне естественные границы в водах Северного или Ледовитого моря, Берингова пролива, Берингова, Охотского и Японского морей на севере и востоке и Средиземного моря на юге. Всего труднее определима юго-западная граница Среднего мира с собственною Азиею. <…> Относительно же прочих сухопутных границ Среднего мира с собственно Азиею следует заметить, что их правильнее всего отождествлять с политическими границами России» 27. Сложнее обстоит дело с определением западных границ греко-славянского мира. Их выяснение составляет сущность так называемого «восточного вопроса». Исторически эта граница оказывается более подвижной, а её уточнение составляет одну из главных политических задач, стоящих перед Средним миром. Ламанский полагал, что, за отсутствием явных географических разделов в Центральной и Восточной Европе, западная граница Среднего мира должна проходить по тем территориям, где численно преобладает не романо-германское население. «Западная граница Среднего мира, — писал историк, — отделяющая его от собственной Европы, есть сухопутная русская-норвежско-шведская граница, Ботнический и Финский заливы, далее ломанная пограничная линия, проходящая по прусским и австрийским землям, между Балтийским и Адриатическим морями. Она то углубляется далеко на запад в Германию, то приближается на восток к русским пределам и упирается на севере около Данцига в море Балтийское, а на юге около Триеста в море Адриатическое. Затем западную границу Среднего мира составляет Адриатическое и Ионийское море. Южная граница Среднего мира, и также собственная Азия (то есть Азиатская Турция). При этом следует заметить, что в отношении этнологическом и историко-культурном некоторые части Малой Азии и Сирии скорее должны быть относимы к миру Среднему, чем к миру собственно азиатскому» 28.
К географическим особенностям Среднего мира историк относил: 1) «скудость берегового развития», то есть материковый характер территории; 2) преимущественно равнинный характер пространства, ограниченного горами лишь на окраинах и 3) преобладание умеренного климата, а на севере более суровые климатические условия 29. В то же время Ламанский подчёркивал, что доминирующий характер культуры Среднего мира больше сближает его с Европой, чем с Азией.
Суровость климата, бедность и однообразие природы с «не особенно значительными оазисами» на окраинах в большей степени свойственны России, как европейской, так и азиатской её частям. К этому следует добавить малочисленность населения при «крайней юности культуры».
Географический фактор во многом задаёт единство всей территории русского государства. По словам Ламанского, «единство русской империи обусловлено совершенным почти отсутствием в ней крупных внутренних расчленений. <…> Этим отсутствием богатых расчленений Россия резко отличается как от европейского запада, так и азиатского юга. Русская Азия в этом отношении составляет почти такую же противоположность собственно не-русской Азии, какую европейская Россия — собственной, не-русской Европе. От настоящей Европы и от настоящей Азии отличается Россия и крайне бедным развитием береговой линии»30. Деление на европейскую и азиатскую части для России не является принципиальным. Иными словами, Россия сколь европейская, столь и азиатская страна. Провести границу между европейской и азиатской Россией практически невозможно. «Азиатские владения России, — уточнял ещё раз Ламанский, — резко отличаются от азиатских владений собственной Европы. Они непосредственно примыкают к так называемой европейской России, составляя с нею одно непрерывное территориальное целое. Между восточными и южными окраинами европейской России и западными и северозападными окраинами русской Азии, собственно говоря, не существует никаких строгих и резких различий и противуположностей ни в географическом, ни в этнологическом, ни в историко-культурном отношении. Переход из одной в другую совершается постепенно и незаметно» 31.
Другой важный источник единства — преобладание в европейской и азиатской России, несмотря на всё разнообразие обитающих в ней племён и верований, одной народности и одной религии. Тем самым вновь подчёркивается отличие «русского мира» от собственно Европы и не-русской Азии. Согласно Ламанскому, «решительное преобладание в европейской и азиатской России одной веры, одного языка и народности есть главный источник её политического и культурного единства, прежних и грядущих успехов в борьбе с её противниками и соперниками, Западом — Европою и Югом — собственно Азиею».
Неразрывность европейской и азиатской частей во многом определяет своеобразие Среднего мира. Однако само по себе культурное единство территории ещё не означает равенство частей. Основные культуротворческие силы, вынужден признать Ламанский, сосредоточены в европейской России. «Если есть Азия русская, — писал он, — если она, в отличие от собственной не-русской Азии, должна быть относима к особому историкокультурному типу, то это единственно потому, что при русской Азии, или азиатской России, есть ещё русская Европа, или Россия европейская. <…>. Отсюда, из древнейших и внутренних русских областей, главнейшие черпает свои силы господствующий элемент русской Азии. Сам по себе он так ещё слаб, что может собственно служить только передатчиком, толкователем и исполнителем идей, произведений и задач, вырабатываемых в европейской России». Отсутствие географических различий способствует постепенному цивилизационному выравниванию Среднего мира, поэтому «обе России [европейская и азиатская. — А. М.] составляют, вследствие постоянных переселений из европейской в азиатскую, одно непрерывное целое».
Конечно, Средний мир не исчерпывается Российской империей, но всё же «русский мир» преобладает в Среднем мире. «К важным же отличительным особенностям греко-славянского востока от романогерманского запада, — уточнял Ламанский, — следует отнести и два характерных этнографических явления. Это, во-первых, множество и разнообразие инородческих элементов, входящих в состав греко-славянского мира, чего вовсе не замечается в историческое время в романо-германской Европе и что имеется лишь у романо-германцев Нового Света, а также в Азии и Африке, и во-вторых, крайняя неравномерность естественных составных частей, на которые распадается, в совершенную противоположность западу, господствующая племенная стихия на нашем востоке». Речь в данном случае идёт о том, что среди народных стихий в Среднем мире доминируют славяне, а среди последних преобладает русская народность. Славяне и православные народы, не входящие в Российскую империю, «составляют сами по себе слишком незначительную, по величине площади, по количеству населения и политическому и культурному её положению, часть Азийско-Европейского материка, для того чтобы образовать особый самостоятельный отдел или мир. Рассматриваемые с точки зрения этнологической и историко-культурной, эти земли естественно должны быть отнесены не к миру собственно азиатскому и не к миру собственно европейскому, а к миру, названному нами Средним. В этом смысле эти земли нельзя отрывать от России, как нельзя азиатскую Россию отделять от европейской». На современной Ламанскому политической карте к цивилизационному пространству Среднего мира принадлежит часть территории Австро-Венгрии, Пруссии и Турции. Без России население этих земель обречено на историческое прозябание и культурную ассимиляцию. Россия — основа Среднего мира и залог исторического существования и культурного развития не романо-германских народов Европы, Cеверной Азии, а отчасти и Малой Азии. По мысли Ламанского, «только безумец славянин может не понимать, не предвидеть, что сталось бы со всем славянством, если бы Россия пропала, исчезла с лица земли или обратилась в нынешнюю незначительность всего остального славянства без России».
Прекрасно сознавая значение России для собирания Среднего мира в единое цивилизационное пространство, Ламанский, тем не менее, не идеализировал славянство в целом и русский народ в частности. Природноклиматические условия, столь много способствовавшие выработке общих культурных основ жизни и складыванию общего психологического типа населения на огромном пространстве от Карпат до Тихого океана, не всегда благоприятно влияли на жизнь народов. Ламанский готов признать отставание русских от европейцев в интеллектуальном развитии. «Суровая природа, — писал он, — пространные равнины, леса, болота, исключительное почти занятие землепашеством, разным домашним и лесным промыслом, продолжительное незнание моря, воспитателя духа предприимчивости и умственной отваги, долго не развивали в добрых и способных славянорусских племенах ни пытливости мысли, ни бессонности ума, так рано отличавшей древних греков. В доброй славянской природе, в сельском быте русского народа было много предрасположения к сердечному восприятию христианства, но нам долго, слишком долго не давалась та подвижность и возбуждённость ума, что никогда не оставляет духа человеческого в покое, будит в нём любознательность, требует от него строго отчётливого разбора, что в его нравственном законе, в его правилах жизни и в его быту самое высшее и существенное, что случайно и условно, что необходимо для спасения и что безразлично».

Славянофильство, как известно, не стремилось к выработке собственной догмы, предпочитая лишь критически реагировать на выступления оппонентов. В то же время целый ряд представлений разделялся большинством последователей славянофильского учения, в частности, возводимое в ранг исторической аксиомы убеждение в ненасильственном характере образования русского государства. Ламанский, фактически приравнивавший славянофильскую критичность к научной объективности, не соглашался с этим положением. «Тем не менее, — отмечал он, — мы не думаем, что русский народ совершенно чужд насильственности <…> насильственность есть одно из дурных общечеловеческих свойств. <…>. Самообольщение вредит и научному изучению отечественной истории и практической деятельности. Не вредно ли, в самом деле, утешать себя и других в гуманности нашей, в отсутствии у нас смертной казни, в демократичности строя нашего государства, при существовании податных и неподатных сословий, при особенностях нашей военной повинности, при той остановке и реакции, которая у нас в значительной степени наступила с закрытия крестьянских комиссий. Что же касается мнения о том, что Россия — государство и народ не завоевательные, то оно противно понятиям исторического народа и государства. Впрочем, как буду иметь случай показать, самообольщение о мягкости и незавоевательности своего народа есть одно из общих свойств патриотического увлечения всех исторических народов мира. Такое самообольщение, впрочем, много говорит в пользу души человеческой, не желающей мириться с тем безумством, обманом и насилием, с теми зверствами, преступлениями и пороками, которыми кишит печальная история человечества. Впрочем, я не думаю отрицать степеней насильственности, которые зависят от многих разнообразных условий: большей или меньшей высоты просветительного начала того или другого народа, его общественного быта и государственного строя, его умственной образованности, духа времени и пр.». Приведённая обширная цитата взята из докторской диссертации Ламанского и, вероятно, вызвана скрытой оппозицией учёного по отношению к идеям опубликованной в тот же год книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
Однако не только климат и даже не столько климат тормозит интеллектуальное развитие русского народа. Не менее пагубной оказалось подражательное направление нашей культуры. По иронии истории, именно заимствованный характер русской культуры препятствует творческому развитию научных, интеллектуальных сил русского общества. Исторический парадокс состоит в том, что ориентация на западноевропейскую культуру, столь многого достигшую в познании окружающего мира, гасит творческие импульсы русского народа, препятствует самостоятельному проявлению русского искусства, науки, литературы и т. п. «Наша образованность и наша общеобразовательная литература, за исключением немногих добрых и светлых явлений, — констатировал Ламанский, — страдают ещё великими проблемами, недостатками, даже крупными пороками. <…> Ещё сильна в нас, русских, непривычка думать своим умом и работать самостоятельно <…> Мы доселе ещё любим хватать знания на лету, запускаем и спешим свалить всякую работу, не любим и не умеем вынашивать наши мысли, обрабатывать наши труды, доводить их до возможно чистой отделки». Ламанский признаёт неисправность и неаккуратность русского человека во многих делах, но опять же полагает, что эти недостатки «конечно, не вытекают из каких-либо коренных свойств русской или славянской природы, а составляют принадлежность нашей в значительной степени ложной образованности. Привитая из чужа, насильственно, по приказу, она выросла на крепостном праве, долго была и отчасти поныне остаётся образованностью показною, искусственною. Образованность эта <…> всё ещё образованность не настоящая, мало оригинальная, скудная творчеством, как есть мало народная, так сказать, совсем не в версту такому великому, своеобразному народу, каков русский».
Помочь преодолеть ложное направление русской образованности или культуры, а вместе с тем пробудить творческие силы русского ума, вызвать уважение к своему народу, своей истории, литературе, искусству и был призван задуманный Ламанским журнал «Славянский мир». Он должен был стать органом русского самосознания. «Недостаток определённого сознания в целом народе и обществе бывает обыкновенно источником слабости, ведёт к печальным заблуждениям, по ложным путям», — замечал Ламанский. В то же время журнал должен был отличаться от консервативных или националистически ориентированных изданий, во-первых, своим чисто научным направлением, а, во-вторых, тем, что «русский мир» предполагалось рассматривать в нём в связи с более широкой цивилизационной общностью греко-славянского, или Среднего, мира.
Алексей Малинов. «Славянский мир» или «русский космос»: о нереализованном издательском проекте В. И. Ламанского. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 6, страницы 32-47
Скачать текст
Примечания
- См. подробнее: Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 373-375.
- См. подробнее: Малинов А. В. Язык, нация, культура в цивилизационной концепции В. И. Ламанского//Философия. Язык. Культура: Сборник Николаю Ивановичу Безлепкину к 60-летию со дня рождения и 30-летию научно-педагогической деятельности. СПб., 2010.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 24.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 21 об.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 22.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 21 об.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 518. Л. 7, 7 об.
- Н. Я. Данилевский хорошо знал старших братьев Ламанского Евгения Ивановича и Порфирия Ивановича ещё по кружку «петрашевцев».
- См.: Малинов А. В. В. И. Ламанский как предтеча евразийцев//Мир Евразии: история, современность, перспектива. Труды Пятого Международного Евразийского научного форума. 12-13 октября 2006 г. Астана, 2006; Малинов А. В. Евразийские аспекты цивилизационной концепции В. И. Ламанского//Российское общество в современных цивилизационных процессах. СПб., 2010.
- РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 10 об.
- РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 34-34 об.
- РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 4 об.
- РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 22 об.
- РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 22 об.
- СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 3. л. 12.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 38.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 39.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 59.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 56.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 57.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 253.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 41-42.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 42.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 45-46.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 15.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 16.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 19.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 98.
- Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. С. 152-155, прим.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 100.
- Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 110.